 |
|
|
Архитектура Астрономия Аудит Биология Ботаника Бухгалтерский учёт Войное дело Генетика География Геология Дизайн Искусство История Кино Кулинария Культура Литература Математика Медицина Металлургия Мифология Музыка Психология Религия Спорт Строительство Техника Транспорт Туризм Усадьба Физика Фотография Химия Экология Электричество Электроника Энергетика |
Государственная политика в сфере высшего образования
Вторая половина XIX-начало XX вв. представляют новую эпоху в истории научной жизни России: как перед всей страной, так и перед научной сферой и сообществом ученых встал вопрос о выборе путей дальнейшего развития в условиях настоятельных задач системного реформирования страны. Реформа 1861 г. положила начало не только экономическим и социально-правовым преобразованиям, но послужила мощным катализатором переосмысления современниками прежнего научного знания, а также места науки, ученого и высшего образования в модернизирующемся обществе. Престиж представителей научного сообщества к середине XIX в. оставался невысоким. Хотя университетское образование получало все более широкое распространение в среде «культурного» общества, но статус науки и ученого не приобрел в дореформенной России ни полного правового определения в соответствии с тенденциями буржуазного развития европейского мира, ни общественного его признания в качестве неотъемлемого элемента культуры. Запросы экономической, политической, культурной жизни России в значительной мере были ориентированы на ценности традиционного общества, что порождало слабую востребованность научных знаний в различных областях жизни. Однако в государственных структурах осознавалась ценность высшего образования: значительное число выпускников университетов поглощалось государственными институциями в качестве образованных чиновников, что отражает известную роль государства в русской истории. Постепенно формировалась и культурная среда, в которой высшее образование стало восприниматься в качестве ценностной ориентации. Представители дворянского сословия, разночинцы, складывавшийся слой интеллигенции и даже отдельные выходца из непривилегированных сословных групп в середине-второй половине XIX в. испытывали потребность в высшем образовании, исходя из профессиональных и общекультурных задач своих жизненных стратегий. В течение XVIII-первой половины XIX вв. научная среда российского общества за сравнительно короткий период времени сумела овладеть базовыми идеями и основным кругом познания, характерными для европейских ученых. Но, несомненно, Россия, как страна «задержанного» социально-экономического и политико-правового развития, в научном секторе своего модернизационного движения также демонстрировала своеобразное «отставание». В рассматриваемый период научные знания, в частности, в области общественно-гуманитарных наук, хотя и получают новые импульсы развития, связанные с обретением ими «национального» лица за счет интереса к историко-социальной проблематики, но в области философии и методологии познания сохранится известная традиция заимствования идейно-теоретического багажа европейской науки. Начиная со времени царствования Александра II, для реализации этой традиции сложились благоприятные политические условия в сравнении с последним периодом правления Николая I. Известно, например, что приостановленная в годы его правления практика научных стажировок в европейских (преимущественно, немецких) университетах, была возобновлена с 1856 г.[531]. В целом для изучаемого времени характерно было расширение и углубление научных связей российских ученых с зарубежными коллегами. Определенным показателем этого процесса стали факты участия российских историков в международных конгрессах. Международное признание в этой связи получили, например, исследования А.С. Лаппо-Данилевского, а сам он являлся их активным участником. Примечательно, что один из очередных форумов историков предполагалось провести в 1918 г. в России. Эти факты свидетельствуют об интеграции ученых-гуманитариев, в частности, историков, в пространство европейской научной культуры.
Эпоха буржуазных реформ органично включила в свою программу переустройство всех ступеней образования, что является свидетельством многогранности начавшейся модернизации российской жизни. Вершиной образовательной пирамиды являлись университеты. Выражением их реформирования стал Устав, утвержденный 18 июня 1863 г. Главный идейный пафос его содержания заключался в возвращении к ряду положений «либерального» Устава 1804 г., который ввел так называемую университетскую автономию, урезанную, однако, «авторитарным», по характеристике П.Н. Милюкова, Уставом 1835 г. В условиях государственного реформирования обсуждение преобразований в сфере просвещения приобрело широкий размах: проблемы дискутировались в печати, в стенах университетов, в широких слоях общественности. При Министерстве Народного Просвещения (далее – МНП) были созданы комиссии с представительством профессуры, которые занимались проблемами усовершенствования организации учебного процесса. В разработке нового устава в различных ролях принимали участие ряд ученых, в том числе связанных с развитием исторических знаний, в частности: К.Д. Кавелин, Н.И. Костомаров, Б.Н. Чичерин. Новый университетский устав существенно увеличил численность штатных преподавателей, повысил их жалованье и статус в Табели о рангах. Но основополагающим положением Устава стал принцип выборности всех основных должностей, что превращало Совет университета в орган самоуправления. В результате университеты приобретали образ корпоративных микроструктур в государстве, представляя некое подобие либерально-демократически устроенной жизни на фоне политической системы «старого режима» Российской империи. Вполне закономерен тот факт, что университеты в пореформенное время превратились в центры оппозиционных настроений различного спектра. Одновременно возникало явное противоречие в государственной системе: государство финансировало учреждения, подчинявшиеся, в частности, МНП, но придавало им автономный статус. Такое противоречие не могло долго существовать, что и выразилось впоследствии в принципах Устава 1884 г. Представители университетской общественности в период обсуждения проекта устава 1863 г. настаивали на закреплении за высшими учебными заведениями главной их функции – научно-образовательной. При этом часто подчеркивалась первая часть этого определения. Представители же правительственных кругов исходили из иной политической линии, видя в университетах, по словам попечителя Петербургского учебного округа И.Д. Делянова, «орудие правительства для достижения…государственных целей»[534]. Различие ценностных установок при выработке устава выражало столкновение мнений его разработчиков, что в условиях «отката» либеральных преобразований скажется на идейном пафосе устава 1884 г. В ходе обсуждения проекта устава 1863 г. возникло ряд проблем, не все из которых новым уставом удалось воплотить в жизнь. В частности, поднимался вопрос, связанный с оптимизацией кадровой системы университетов. Один из активных участников комиссии по разработке устава профессор Н.И. Пирогов настаивал на необходимости создания системы обновления профессорской корпорации. В этой связи он предлагал опираться на такие инструменты, как организация публичных конкурсов на должности. Новые принципы общественной жизни – гласность, конкуренция, выражение общественного мнения, в том числе со стороны учащейся среды, должны были составить основу обновления социально-психологической атмосферы повседневной жизни университетов. В этой связи им была высказана мысль о создании института приват-доцентуры, который, хотя и был принят новым Уставом, но, по свидетельству и мнению, например, П.Н. Милюкова, «не привился на практике», поскольку одновременно вводилась жесткая система обязательного учебного плана преподавания и соответственно посещения занятий и последующей отчетности по ним со стороны студентов. Только Уставом 1884 г. этот институт будет сформирован, что создаст более благоприятные условия для притока молодых специалистов в научное сообщество. При обсуждении проекта устава предлагалось допустить женщин к университетскому образованию, но окончательная редакция обошла этот злободневный вопрос. Впоследствии он получит компромиссное разрешение в организации системы Высших женских курсов, а также в допущении женщин на отдельные факультеты (медицинские, в частности) в качестве вольнослушательниц. Вместе с тем, Устав 1863 г., вошедший в историю российского образования под определением «либеральный», предоставил университетам широкие полномочия, обеспечившие подготовку специалистов высшей квалификации, организацию научных исследований и формирование устойчивого слоя профессорско-преподавательских кадров. Он нацелил их и на разработку широких программ общественной деятельности (например, организацию публичных лекций, съездов ученых, научных обществ). На основе Устава 1863 г. вводилось «Положение об ученых степенях и званиях» (1864). Оно закрепило рациональную (и, как оказалось, долговременную в национальной истории) систему подготовки и защиты магистерских и докторских диссертаций, предоставив университетам самостоятельность в решении выдвижения кандидатур на подготовку к «профессорскому званию», создав условия для свободы творческой деятельности и публичного характера организации научных диспутов во время защит диссертаций. Численность студентов после 1863 г. начинает заметно расти. Можно сравнить: по данным П.Н. Милюкова, в 1836 г. в российских университетах[535] обучалось немногим более 2,0 тыс. человек, в 1848 – 4,5, в 1854 – 3,5, в 1864 – 4,3, в 1875 – 5,6, 1885– 12,9 тыс. человек[536]. Вскоре после утверждения Устава 1863 г. были открыты новые университеты: в 1865 г. – Новороссийский (в Одессе), в 1869 г.- Варшавский, позднее – Томский[537]. Два первых из названных имели в своей структуре историко-филологические факультеты, в рамках которых осуществлялась подготовка историков. По данным В.Р. Лейкиной-Свирской с середины XIX до начала XX вв. историко-филологические факультеты всех российских университетов окончило более 5,5 тыс. студентов (ср.: для физико-математических факультетов эта цифра составила почти 10,0 тыс. человек)[538]. Наряду с университетами высшее историческое образование получали студенты двух Историко-филологических институтов (в Петербурге с 1867 г. и Нежине с 1875 г.), ориентированных, преимущественно, на подготовку учителей гимназий по гуманитарным дисциплинам. Смена политического курса в России после известного события 1 марта 1881 г. самым непосредственным образом сказалась на университетской политике. Начавшееся еще во второй половине 60-х гг. XIX в. движение в сторону изменений устава 1863 г., после убийства Александра II принимает интенсивный характер. Министром народного просвещения в 1882 г. становится консервативно настроенный И.Д. Делянов[539], при котором завершается разработка нового устава, утвержденного 23 августа 1884 г. В одной из дневниковых записей, относящихся к периоду его разработки, П.А. Валуев, отражая умонастроения «верхов» по университетскому вопросу, резюмировал: «Когда …во всех слоях населения смута понятий, создавать университеты в виде храмов науки невозможно… Возможны только высшие полицейско-учебные заведения…»[540]. Значительной частью современников (в том числе, историками Милюковым, Кареевым, Кизеветтером и др.) Устав 1884 г. воспринимался как элемент контрреформистского курса правительства. Характерно, что сюжет об этом Уставе в воспоминаниях А.А. Кизеветтера находится в разделе, озаглавленном автором «Период контрреформ»[541]. Недовольство научной общественности было связано, прежде всего, с посягательством правительства на автономию университетов. Они теперь получали статус государственных учреждений и полностью зависели от решений и контроля МНП. Особое внимание в новом Уставе было уделено студенческой корпорации, которая попала под неустанное наблюдение попечителей, инспекторов, полиции. Н.И. Кареев вспоминал о характере полицейского надзора «субинспекторов и педелей» за студентами: «Не знаю с самого ли начала так было, но потом существовала секретная комната, где висели фотографические карточки студентов (таковые прикладывались в трех экземплярах к прошению о приеме), а педели время от времени сдавали экзамен по этим карточкам в знании, какая фамилия соединена с какой физиономией. Соблюдение введенной по уставу формы неукоснительно требовалось: за то и другое отступление делался выговор, пришедшего в партикулярном платье не впускали в здание университета, были и случаи отсидки в карцере. У каждого студента было свое место на вешалке верхнего платья, так что педели могли проверять, кто ходит, и кто не ходит на лекции. Введение особого гонорара в пользу профессоров повысило плату за обучение. Студенчество присмирело». Мемуарист отмечал, что эти меры, соединенные с «засильем» в измененных учебных программах «классики», т.е. древних языков, древней литературы и истории, существенно снизили численность студентов историко-филологических факультетов[542]. На эти же причины снижения студенчества указывал П.Н. Милюков. Т. Бон, имея в виду данную ситуацию, представил статистику студентов историко-филологических факультетов России. По его сведениям с 1885 по 1899 гг. общее количество российских студентов историко-филологических факультетов сократилось на 43%. В более мягком виде эта же тенденция просматривается в Московском университете. После введения Устава 1884 г. до 1887 г. в нем на историко-филологическом факультете еще наблюдался рост студентов: в 1885 г. их насчитывалось 276 человек, в 1887 г. – 314, что составляло 10% от всего количества студентов университета. К 1897 г. численность студентов-гуманитариев сократилась до 215, составив только 5 % от общего количества. Рост студентов-гуманитариев наметился с конца 1890-х гг. К 1904 г. численность студентов-историков и филологов в Московском университете составляла уже 594 человека, что несколько превышало 10 % от общего их числа[543]. Недовольство студенчества новыми порядками, установившимися в связи с введением Устава 1884 г., выразилось в подъеме студенческих выступлений в конце 1880-х, конце 1890-х – начале 1900-х годов. Известная «Брызгаловская история»[544], вызванная мелочными придирками и попытками внедрения в студенческую среду системы доносительства, выразилась организацией студентами обструкции министерского инспектора и требованиями восстановления устава 1863 года. Студенческие беспорядки охватили несколько университетских городов; целый ряд вузов были временно закрыты, десятки студентов были исключены. Связь студенческих волнений с введением Устава 1884 г. отмечал П.Н. Милюков, подчеркивая, что высшей точкой недовольства уставом стало введенное в 1899 г. по инициативе тогдашнего министра народного просвещения Н.П. Боголепова, правило об отдаче в солдаты участников беспорядков. На его основе 183 студента Киевского университета в 1900 гг. были отданы в солдаты. Следствием этой акции, по его мнению, стало убийство министра в 1901 г. студентом эсером П. В. Карповичем[545]. Целый ряд современников были убеждены, что консерватизм и бюрократические принципы Устава 1884 г. станут основой его неприятия в практической жизни и потребуют от правительства существенных корректировок[546]. П.Н. Милюков, несколько преувеличивая бесперспективность реализации нового устава, резюмировал: «Применить его на практике вовсе не удалось: на первых же порах самые основные черты устава оказались не приложимыми, и фактически восстановлен был порядок, действовавший при старом уставе»[547]. Из наиболее полезных нововведений устава современники обычно указывали на создание института приват-доцентуры. Историк В.И. Пичета, обучавшийся в Московском университете, отмечал, что в «системе университетского формализма» «единственно живыми были приват-доцентские курсы». Они, в виде спецкурсов и спецсеминаров, проводились молодыми преподавателями, сравнительно недавно защитившими свои магистерские диссертации. С приват-доцентурой была связана преподавательская деятельность таких известных историков как М.К. Любавский, А.А. Кизеветтер, М.М. Богословский, Н.А. Рожков, М.С. Корелин, Р.Ю. Виппер, А.Н. Веселовский и др.[548] Новый вид учебных занятий существенно дополнял и обогащал проблематику и концептуальные идеи основных учебных курсов по истории. Несомненно, приват-доцентские курсы являлись основой роста творческого потенциала молодого поколения ученых и создавали основу кадрового омоложения профессорско-преподавательской корпорации. Кроме того, они предлагались студенческой аудитории на выбор, и это привносило некоторый демократический элемент «учебной» свободы для студентов, а в ряды молодых преподавателей – здоровую творческую конкуренцию. В некоторых современных исследованиях вполне просматривается попытка переоценки «консервативного» Устава 1884 г., стремление, наряду с политической подоплекой его содержания, раскрыть позитивные следствия внедрения его положений в сферу организации учебного процесса и научной деятельности профессорско-преподавательского состава университетов. Детальное изучение его содержания и нормативных дополнений, прослеживаемых до начала XX в., а также исследование результативности в деле подготовки специалистов и, в частности профессионалов-историков, позволяют утверждать, что в ходе реализации нового устава ряд его наиболее одиозных положений подверглись изменению: в частности, была снижена доля «классических» дисциплин, существенно откорректирована система экзаменов. В ходе применения Устава 1884 г. начался активный диалог университетов и МНП, в результате которого практически удалось достичь компромисса в определении структуры факультетов и моделей учебного процесса. В этот процесс обсуждения были втянуты ведущие профессора историко-филологических факультетов. Исследователями подчеркивается, что программы и формы обучения были ориентированы на получение студентами фундаментальной научной подготовки[549]. Стоит заметить также, что Устав 1884 г. сохранял за факультетами полномочия, связанные с подготовкой и защитой диссертаций. Более того, в сравнении с предыдущим временем, когда этот круг вопросов решал преимущественно Совет университета, теперь они стали факультетской прерогативой, что создавало благоприятные условия для выявления талантливых студентов и существенно повлияло на увеличение численности претендентов в магистратуру. При этом Устав 1884 г. «навел порядок» в системе ученых степеней и званий. В частности, были отменены, ставшие архаичными, ученые звания «действительного студента» и «кандидата» (последнее присваивалось лицам, завершившим курс университетского образования с написанием самостоятельной творческой работы). Сохранялись только две ученые степени – магистра и доктора наук[550]. Формирование традиций диссертационной культуры содействовало росту количества защищаемых диссертаций во второй половине XIX века. Т. Бон, опираясь на данные, собранные Г.Г. Кричевским[551], заметил, что в период с 1805 по 1864 гг. число защит диссертаций в российских университетах составило 625, с 1864 по 1916 гг. – уже 2 266. Однако в сравнении с ситуацией в немецких университетах эти показатели свидетельствуют о меньших масштабах в России данного научно-образовательного процесса: в Германии с 1860 по 1909 гг. было защищено 4 613 диссертаций. По наблюдениям Т. Бона общее количество защищенных во всех немецких вузах диссертаций в 2,5 раза превышало число российских диссертаций[552]. После 1884 г. в российских университетах наблюдалось некоторое снижение темпов диссертационных защит. Если с 1863 по 1874 гг. в среднем ежегодно защищалось 26 магистерских и 24 докторских диссертации, то в период с 1886 по 1896 гг. – 15 и 12 соответственно. Статистика присуждения ученых степеней на историко-филологическом факультете Московского университета укладывается в эту динамику. Количество магистерских степеней с 1865 по 1874 гг. ежегодно составляло 13-14, с 1885 по 1904 гг. – 19-22, хотя в этот период численность студентов увеличилась вдвое. Докторские ученые степени с 1865 по 1904 гг. стабильно присуждались не более 11-12-ти ежегодно[553]. Дополняя приведенные выше сведения данными указателя Г.Г. Кричевского, можно отметить, что с 1805 по 1919 гг. на историко-филологических факультетах университетов России было защищено 300 докторских и 562 магистерских диссертаций (для сравнения: за этот же период на физико-математических факультетах соответственно – 458 и 851 диссертаций, на юридических – 242 и 419)[554]. Ситуацию с защитами диссертаций историками отражает, приводимая ниже таблица[555]:
Число диссертаций, защищенных в российских университетах по русской и всеобщей истории. 1805 – 1919 гг.
Не следует преуменьшать того факта, что Устав 1884 г., урезав университетские свободы, вызвал негодование в широких кругах либерально настроенной профессуры, в том числе представителей исторической науки. Современники в значительной своей части воспринимали этот Устав как выражение реакционной политики в области постановки высшего образования. Характерна в этом отношении позиция известного философа и видного политического деятеля рубежа веков, первого избранного в 1905 г. ректора Московского университета – С.Н. Трубецкого. Борясь за возрождение университетской автономии[556], он видел перспективы нового реформирования университетской системы, основанного на идее создания университета как «цельного организма», соединяющего профессиональные и культурные интересы профессуры и студентов. Университет, который может принимать самостоятельные решения, считал Трубецкой, способен создать атмосферу ответственного отношения профессуры – к преподаванию, студенчества – к обучению. «Ответственность» из административно-дисциплинарной категории он переводил в разряд нравственных понятий. Трубецкой полагал, что приблизиться к этой новой модели университета невозможно в системе политического режима самодержавия, который он характеризовал как «полицейский абсолютизм». В университетской политике его выражением, считал он, стал Устав 1884 г. Критический взгляд на содержание Устава и его последствия просматривается в исследовании Т.М. Бона, который отмечал, в частности, сложное в материально-финансовом отношении положение растущей приват-доцентуры. Именно эта наиболее молодая и подающая надежды на последующее обновление состава профессуры группа, оказывалась непривилегированной частью университетской среды преподавателей. По Уставу 1884 г. они не обеспечивались твердым жалованьем, а должны были получать оплату труда из средств гонорарной системы. То есть их факультативные курсы должны были поддерживаться за счет оплаты обучения студентами, что нередко затрудняло формирование необходимой студенческой аудитории для проведения занятий. Но даже профессора, доход которых был несравненно выше, вынуждены были вести занятия в нескольких учебных заведениях[557]. Проблема оплаты труда преподавателей и особенно приват-доцентов стала объектом корпоративного и общественного обсуждения.[558] В годы Первой русской революции в среде «младших» преподавателей Московского университета сформировалось даже движение за улучшение материальных прав этой категории специалистов высшего образования. Позиция правительства в деле открытия новых университетов в 1880-90-е гг. и в начале XX в., мягко говоря, была весьма сдержанной: к 1917г. в огромной по занимаемому пространству Российской империи существовало всего 11 университетов. После Устава 1884 г. были открыты лишь Томский (1888), первоначально имевший лишь один факультет – медицинский, Саратовский (1909) и Пермский (1916) университеты[559]. Несомненно, медленный рост количества университетов являлся результатом «охранительной» составляющей общего политического курса в сфере высшего образования.[560]
Весьма любопытна статистика, свидетельствующая о доле студентов историко-филологических факультетов в общем составе студенчества. Для всех университетов она, по данным Ю.В. Красновой, в 1860 г. составила 4%, 1880 – 11,3%, в 1885 –9,8%, 1894– 5,2%, 1899 –3,9%[563]. Как видим, процент студентов-гуманитариев был сравнительно невелик, динамика численности данной категории студенчества была неустойчивой. Некоторый его рост после Устава 1863 г. сменился тенденцией сокращения с принятием Устава 1884 г. Автор исследования, выявившая эти данные, справедливо замечает, что важнейшим фактором, определившим тенденцию снижения числа студентов-гуманитариев, были не только причины, связанные с неприятием студенчеством приоритета классических дисциплин в программах обучения, но и с более фундаментальным процессом, вытекающим из модернизационного поворота в историческом развитии России. Инженерно-технические специальности, либо специальности, обеспечивающие материальное благополучие и карьерный рост на государственном поприще отодвигают историко-филологические факультеты на периферию интересов молодого поколения в их профессиональной ориентации, что, несомненно, создает напряженную ситуацию в данном секторе высшего образования[564]. Приведенные сведения о сложной динамике численности интересующей нас группы студенчества в 1880-е гг. и на рубеже XIX-XX вв., по всей вероятности своеобразно проецируют и основные тенденции в общественно-политических настроениях тех времен. «Застой» 1880-х гг. сменяется общественным подъемом следующего периода, который в определенной мере повышает интерес к историко-гуманитарному знанию, но не может преодолеть сильнее выраженного прагматизма нового поколения, стремившегося в условиях требований формировавшейся буржуазной культуры обрести себя в более перспективных сферах деятельности. Количественные характеристики кадрового состава представителей высшей школы представлены в ряде исследований А.Е. Иванова[565], обогащаются новыми исследованиями, среди которых – монография Н.Н.Никс[566]. Не подразделяя состав профессорской корпорации московских вузов по специальностям, Н.Н. Никс приводит интересные статистические сведения, позволяющие представить общую картину и динамику численности российской и московской профессуры. По сведениям автора в пореформенные годы в России наблюдался ее рост, хотя в начале 50-х гг. XIX в., если точна информация, их было существенно больше, чем в начале 60-х гг. (Ср.: 530 и 202 человека). Но с 1863 по 1917 г. численность профессуры по всей стране выросла с 202 до 688 человек. В крупнейшем – Московском университете за это же время ее численность увеличилась с 43 (21,3 % от общего количества) до 97 (14,1,0%)[567]. Уменьшение доли профессуры в Московском университете от ее общей численности свидетельствует о позитивных тенденциях роста этой научной категории лиц в других (в том числе, периферийных) вузах России. В рамках данной динамики, наиболее быстрыми темпами пополнялся институт приват-доцентов. Т. Бон, опираясь на отчетную документацию Московского университета, установил, что в период с 1890 по 1905 гг. численность преподавателей данной категории всех факультетов университета выросла с 85 до 224 человек. За это же время ряды ординарных профессоров увеличились лишь с 47 до 71, а экстраординарных профессоров уменьшились с 31 до 17[568]. Общая численность профессорско-преподавательской корпорации университетов и других высших учебных заведений России представлена А.Е. Ивановым: по его подсчетам в начале XX в. она составила около 1 тыс. человек. Поскольку нас в первую очередь интересует фигура ученого-историка, попытаемся выяснить вопрос о численности этой категории представителей ученого мира. Точных сведений на этот счет также нет. Согласно Уставу 1884 г., в штатном расписании историко-филологических факультетов должно было числиться 17 ординарных и экстраординарных профессоров[569]. Исходя из приблизительных расчетов, на историко-филологических факультетах всех университетов того времени, преподающие («штатные») профессора-историки могли составлять 150-160 человек. Закон не возбранял в то же время изыскивать средства и принимать в университеты специалистов сверх штата. Источником пополнения их рядов являлся упомянутый выше институт приват-доцентуры. По сведениям Т. Бона, основанным на данных статьи В.А. Мякотина, посвященной «профессорскому гонорару», в 1896 г. в Санкт-Петербургском университете на историко-филологическом факультете насчитывалось 15 профессоров, 14 штатных доцента, 16 нештатных приват-доцентов[570]. Историки-профессионалы входили не только в преподавательский состав университетов и некоторых других вузов, но представляли также Академию наук, Археографическую комиссию, работали в музеях, архивах, губернских ученых архивных комиссиях, были связаны с изданием специальной исторической и общественно-политической периодики и т.п. К началу XX в. завершается процесс институализации исторической науки. Он включал формирование системы учреждений и обществ, в рамках которых осуществлялся процесс выработки научного знания (ведущими среди них являлись историко-филологические факультеты университетов), создание культурного пространства приложения профессиональных усилий историков, складывание слоя потребителей исторического знания, возникновение в общественной среде представлений об основных чертах культурного и профессионального облика ученого-историка. Большое значение в формировании научно-профессиональной корпорации историков имели уже устойчивая традиция подготовки выпускников-историков к профессорскому званию посредством системы магистратуры и организационный опыт работы над диссертационными исследованиями. Защита диссертаций стала неотъемлемым элементом и ритуалом в научной жизни ученых, привлекая внимание своей значимостью широкой культурной аудитории. Формирование научных школ также явилось важным фактором научной жизни, содействуя созданию выразительного контекста научного пространства и атмосферы творческой деятельности российских историков. Каким образом определялся статус «человека-ученого» и какова численность историков, чей статус определялся дополнительно как «ученый»? Следует заметить, что обозначенная категория формировалась на основе действующего законодательства. Понятие «ученый» появилось в российском законодательстве с 1862 г. в связи с дополнением «Устава о службе правительственной». Он и установил критерии для получения звания «ученый». К этой категории лиц относились все имевшие ученые степени (на тот момент – доктора, магистры, кандидаты, действительные студенты). Кроме того, сюда включались выпускники бывшего Педагогического института, получавшие особые звания старших или младших учителей гимназий. В эту же группу входили лица без специальных степеней и званий, но получившие широкую известность и признание научного сообщества за свои научные труды[571]. Вполне определенная размытость выдвигаемых критериев в определении категории ученого затрудняло учет численности представителей «ученого сословия». Да и специальных подсчетов, вероятно, специально не производилось. В связи с этим историки оперируют приблизительными величинами. Так, историк В.А. Муравьев с учетом корректировок понятия «ученый», внесенных в последние десятилетия XIX в., исключив большой отряд учителей-историков, выдвинул предположение о наличии к началу XX в. в составе научной интеллигенции отдельной группы историков-ученых, численностью немногим более 0,5 тыс. человек[572]. Она представляла неоднородное по профессиональным и общественно-политическим интересам, теоретико-методологическим основам научно-исследовательской деятельности социальное образование, которое и составляет объект внимания историографии. Можно, вероятно, считать, что на рубеже XIX-XX вв. на историко-филологических факультетах происходит своего рода «массовизация» состава преподавательской корпорации. Начинает уходить в прошлое характерный для более раннего времени ландшафт исторической науки, украшенный крупными, но одиноко возвышавшимися фигурами историков – Карамзиным, Погодиным, Соловьевым и др. Во второй половине XIX в. и особенно в первые десятилетия XX столетия крупные научные авторитеты оказываются окруженными рядами учеников, последователей и почитателей их талантов. Формируется многоярусное научное сообщество историков со своими традициями внутренней жизни. В его составе складывается довольно многочисленная категория «рядовых тружеников» науки, представителей провинциальной историографии, специалистов «узких» областей исторического знания и т.д., деятельность которых еще слабо изучена в современных трудах по историографии. Однако появление в лексиконе современных историографов нового понятия – «историк второго плана» – позволяет надеяться, что перспективы историографических исследований будут связаны с тотальным охватом персонализированного пространства исторической науки дореволюционного времени. Для типичного представителя сообщества ученых-историков второй половины XIX – начала XX вв. характерно сочетание высшей квалификации ученого, имеющего степень магистра или доктора, и педагога-преподавателя. В университетской среде уже невозможно было увидеть историка-самоучку, что являлось еще характерным для первой половины XIX в. (вспомним, например, М.Т. Каченовского). Профессионализм становится главной чертой историка-преподавателя. Историк пореформенной эпохи, как правило, специализировался по избранной им научной проблематике, в течение ряда лет вел определенный набор учебных дисциплин, что позволяло совершенствовать профессиональное мастерство. «Образцовым» профессором, считался тот, кто в учебной аудитории не просто информировал студентов о предметной области той или иной учебной дисциплины, а делился со студентами результатами своей научной деятельности. Имидж признанного в культурной среде специалиста-профессионала мог завоевать только историк-интеллектуал, репродуцирующий новое знание, имеющий самостоятельные оценки состояния не только своей науки, но и смежных с ней областей. Учебные занятия для многих российских историков данного времени становились средством реализации творческого потенциала ученого-преподавателя. Университетская практика преподавания обогащается в это время новыми формами обучения – так, называемыми семинариями (практическими занятиями), спецкурсами, во время которых укреплялись научные и личностные контакты начинающих и признанных профессионалов-историков. Известность и славу в студенческой среде и за ее пределами получили, например, лекции В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, А.А. Кизеветтера, семинары и спецкурсы П.Г. Виноградова, В.И. Герье, П.Н. Милюкова М.М. Богословского, А.С. Лаппо-Данилевского и других. Когорта историков данного времени воспринималась общественной средой не только как источник научных знаний, но и как тот потенциал национальной культуры, при помощи которого осуществлялось своего рода воспитание историей представителей молодых поколений нации. Историки, как отдельный отряд ученой среды, играли весьма заметную роль в общественно-политической и культурной жизни России. В период модернизационной перестройки страны существенно увеличиваются возможности трансляции результатов научных исследований историков в сферу культурного пространства. Одновременно возрастает потребность общества в историко-научной информации, что актуализируется модернизационным кризисом и проблемами национальной самоидентификации. Этим взаимосвязанным процессам содействовали научные явления по совершенствованию системы инфраструктуры исторической науки.
Большую роль во второй половине XIX – начале XX в. в обеспечении историков источниковым материалом играл Московский архив Министерства Юстиции, организованный в 1852 г. Его особая функция заключалась в том, что он превратился в своеобразный научно-методический центр архивного дела в России. Здесь работали видные ученые-архивисты – Н.В. Калачов, Н.А. Попов, Д.Я. Самоквасов, Д.В. Цветаев. Архив интенсивно комплектовался за счет поступления исторической части документов различных государственных учреждений, судебных организаций, Сената. Кроме этих двух ведущих исторических архивов существовали и другие: Главный межевой архив, Московский дворцовый архив, формировалась система военно-исторических архивов. Существовали также богатые коллекции документов ведомственных архивов Сената, Синода, Государственного Совета и других высших и центральных государственных учреждений. В пореформенный период архивы стали возникать и за пределами российских столиц: в Киеве, Вильно, Витебске были созданы Архивы древних актов (1863). В Харькове возник Исторический архив, сосредоточивший материалы по истории Левобережной и Слободской Украины (1880). Кроме государственных создавались архивы различных общественно-политических организаций. По данным В.Н. Самошенко в дореволюционной России в общей сложности насчитывалось свыше 120 тысяч (?) правительственных и общественных архивов[574]. Особое место в галерее архивных деятелей второй половины XIX в. принадлежала Николаю Васильевиуч Калачову[575], с именем которого связаны разработка проекта и строительство специальных сооружений, приспособленных для архивного хранения документов и организации поисковой исследовательской работы, а также создание учебных заведений для подготовки кадров историков-архивистов. Он же стал инициатором формирования архивной сети в провинциальных районах России. Н.В. Калачов в течение 20 лет (1865-1885) возглавлял Московский архив МЮ. По его инициативе было построено специализированное здание архива с соответствующим оборудованием. При разработке его проекта он вложил собственные средства в фонд премии за лучшее решение архитектурной задачи. В эксплуатацию это первое специализированное здание архива (ныне здесь располагается РГАДА) было пущено в 1886 г. уже после смерти Калачова. Подготовка кадров архивных работников, как актуальная задача науки и значимое государственное дело, в европейских странах было осознано уже в первые десятилетия XIX в. Например, во Франции с этой целью в 1820 г. была создана Школа хартий. Несколько позднее подобные учебные учреждения, ставшие научно-методическими центрами развития архивоведения, археографии и комплекса вспомогательных исторических дисциплин, появились в Вене, Мюнхене, Марбурге. В России реализация такой задачи стала возможна много позднее. Преодолевая существенные организационно-финансовые трудности, неутомимый Н.В. Калачов добился в 1877 г. открытия Императорского археологического института (в Петербурге), став его первым директором. На первых порах институт действовал на средства частной благотворительности и располагался на квартире Калачова. Только с 1883 г. он стал получать некоторую правительственную субсидию. Петербургский археологический институт готовил на базе высшего и среднего образования архивистов, археографов и (с 1899 г.) археологов. Главный учебный курс этого учебного заведения – «Основания науки об архивах» – был разработан Н.В. Калачовым. За время своего существования (до 1922-1923 уч. года) Петербургский археологический институт закончило 1,5 тыс. человек. Данное учебно-научное заведение, обеспеченное высококлассными профессионалами – архивистами и историками, имело богатую библиотеку и издавало свои труды: «Сборник Археологического института» и «Вестник археологии и истории». В 1907 г. по инициативе Дмитрия Яковлевича Самоквасова подобный институт был создан в Москве. Большое значение для развития архивоведения как научной отрасли и учебной дисциплины имела книга Д.Я Самоквасова «Архивное дело в России» (СПб., 1902). Московский археологический институт окончило около 300 человек. Важной чертой его деятельности стало открытие его филиалов – в Смоленске, Калуге, Нижнем-Новгороде, Ярославле, что содействовало не только формированию среды историков-архивистов в российских провинциях, но и благоприятных условий для создания центров региональных исторических исследований. Ещё большее значение для развития отмеченного процесса имело создание губернских ученых архивных комиссий. Они в 1884 г. возникли по инициативе все того же В.Н. Калачова. Если говорить точнее, то в основе его предложений была заложена идея проведения архивной реформы в России. Основной ее смысл заключался в создании разветвленной системы губернских исторических архивов. Этот грандиозный по тем временам проект полностью осуществить не удалось. Но, благодаря энтузиазму той части провинциальной интеллигенции, которая была ориентирована на сохранение историко-документальных ценностей и исторической памяти на местах, почин Калачова получил широкий отклик в ее среде. По данным В.П. Макарихина с 1884 по 1916 гг. в России было создано и действовало 39 губернских архивных комиссий (ГУАК), 29 из которых опубликовали около 900 различных изданий (в том числе – «Труды» архивных комиссий), содержавших описания губернских архивов, тексты документов и результаты научных исследований по региональной истории. Лидерами в этом движении были Тверская, Рязанская, Тамбовская и Орловская губернские комиссии. Все они возникли в 1884 г. и издали соответственно 101, 99, 74, 40 научных сборников. Представительно выглядела деятельность наших – уральских – губернских комиссий. Оренбургская комиссия (создана в 1887 г.) подготовила 38 изданий, Пермская (в 1888 г.) – 27, Вятская (в 1904 г.) – 44[576]. Численность некоторых комиссий, представленных местным чиновничеством и интеллигенцией, составляла до 200-300 человек. В административном отношении они подчинялись губернатору и, следовательно, находились в ведомстве МВД. Однако научно-методическое руководство осуществлялось первоначально Петербургским археологическим институтом, а с 1912 г. – Русским историческим обществом (РИО), находившимся в подчинении МНП. Сформировавшаяся, по словам Д.Я Самоквасова «общественная архивная служба», несомненно, свидетельствовала о пробуждении в провинции глубокого интереса к собственной истории, и, следовательно, являлась показателем роста исторического самосознания широких слоев российского общества. Инициативы историков-архивистов трудно переоценить: созданная сеть ГУАК стала массовым явлением в истории российской культуры, заложив длительную традицию историко-краеведческих исследований в России, а также базу для формирования уже в советский период системы областных архивов. В начале XX в. усилиями историков и архивистов была проведена большая работа по описанию многих фондов центральных архивов. С этой сферой деятельности были связаны, в частности, А.С. Лаппо-Данилевский, А.Е. Пресняков, С.Ф. Платонов, Д.В. Цветаев, А.И. Андреев и др. В результате были подготовлены публикации документов архивов, а также многотомные издания описей материалов ряда архивных фондов – Сената, Синода, Государственного совета, министерства народного просвещения, министерства земледелия и государственных имуществ, военного министерства. В 1910-е гг. заметно усилились инициативы и движения ученых и общественности, направленные на сохранение архивных фондов, как в центре, так и в губерниях. В 1911 г. РИО была организована «Особая комиссия по сохранению местных архивных материалов». В мае 1914 г. состоялся съезд представителей губернских архивных комиссий, на котором обсуждался вопрос о создании губернских исторических архивов. После Февральской революции 1917 г. в Петрограде сформировался «Союз российских архивных деятелей», вошедший в функционировавший тогда Союз союзов. Председателем союза архивистов был избран известный историк А.С. Лаппо-Данилевский. В его состав вошли и другие историки, например, С.Ф. Платонов, А.Е. Пресняков. Задачи деятельности «Союза российских архивных деятелей» определялись проблемами организационного реформирования архивного дела, охраны архивных фондов, издания трудов по архивоведению, защиты профессиональных интересов архивов. В ряде городов страны были созданы отделения «Союза», просуществовавшие до 1922 г. В рассматриваемый период продолжала развиваться особая сфера исторической науки – археография. Связанная с собиранием, описанием и изданием письменных источников, она образовала свою отдельную внутреннюю структуру, которая требовала сложного научно-организационного обеспечения и государственного финансирования. Сформировавшиеся ещё в первой половине XIX в. археографические экспедиции и Археографическая комиссия, продолжали свою работу. В своей деятельности они тесно были связаны с системой архивов, научными обществами, библиотеками, музеями, периодическими изданиями. В пореформенное время Археографическая комиссия[577], действовавшая при Министерстве народного просвещения в Петербурге, стала издавать «Летопись занятий» (1862-1929), где публиковались документы, архивные справочники, научные статьи, извлечения из протоколов заседаний археографической комиссии и др. Наряду с Петербургом Археографические комиссии возникли в Киеве, Вильно, Тифлисе, Москве. Известными руководителями (председателями) Археографической комиссии в Петербурге были В.П. Титов (1871-1891), А.Ф. Бычков (1891-1899), С.Д. Шереметьев (1900-1917). С практикой археографической работы связаны имена ряда видных историков и археографов – В.Я. Богучарского, С.Б. Веселовского, В.Г. Дружинина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, А.С. Лаппо-Данилевского, С.Ф. Платонова, А.Е Преснякова, Н.П. Павлова-Сильванского, А.А. Шахматова и др. В современных исследованиях раскрыт вклад крупнейших ученых-историков в сферу археографии[578], которая развивалась как историко-филологическая дисциплина. Олицетворением дисциплинарной специфики можно считать творчество известного филолога и историка, знатока русского летописания А.А. Шахматова. Его опыт выявления, систематизации и методики изучения древнерусских летописей хорошо известен студенческой аудитории из курса источниковедения. Среди перечисленных историков следует также подчеркнуть особую роль А.С. Лаппо-Данилевского в развитии археографии[579]. Являясь одним из видных и активно работающих академиков Российской АН, он в начале XX в. осуществлял руководство над реализацией более шестидесяти археографических проектов. В ходе грандиозных источниковедческих разысканий, разработке научных критериев отбора и принципов публикации исторических документов, планирования их структуры и научных примечаний закладывались основы целого комплекса специальных и вспомогательных исторических дисциплин. С деятельностью А.С. Лаппо-Данилевского в Археографической комиссии можно связывать становление и развитие не только археографии, но и источниковедения, дипломатики, палеографии и др. специальных областей исторического знания. Трудно переоценить, кроме того, факт создания ученым плеяды историков-археографов, что позволяет связывать с его именем создание «археографической школы» и «русской школы дипломатики частного акта»[580]. К началу XX в. историографы относят завершение процесса формирования археографии как специальной исторической дисциплины, которая приобрела вековой опыт эвристической и издательской деятельности, выработала методы и принципы публикации текстов источников, определила свое предметное поле[581]. По мнению С.В. Чиркова к этому времени в дореволюционной исторической науке задачи археографии связывали с «научным описанием и изданием источников отечественной истории». Развитие данной сферы историко-филологического знания содействовало процессу формирования источниковедения и цикла вспомогательных дисциплин.[582] Появление цикла источниковедческих исследований, диссертаций и учебных курсов по источниковедению (К.Н. Бестужев-Рюмин, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский, А.Е. Пресняков и др.) демонстрирует плодотворную связь эмпирического материала науки и его теоретико-методологического осмысления. Потенциал дореволюционной археографии и, связанного с ней источниковедения, явился фундаментальным основанием, как для собственного развития этих дисциплин, так и для обогащения опыта научных исследований конкретных проблем российской истории в XX-XXI вв.
Долгой оказалась историческая судьба одного из первых научных обществ историков – Общества истории и древностей российских (ОИДР), основанного в 1804 г. при Московском университете. Во второй половине XIX –начале XX в. оно продолжало успешно работать, публикуя серию своих изданий, наиболее известными из которых были «Чтения» (ЧОИДР), и сохраняя за собой значение центра по изучению древней русской истории (до XVIII в.). К началу XX в. по свидетельству В.О. Ключевского издания общества составили более 250 книг, в которых содержалось 3,3 тыс. исследовательских статей по истории России и славянских народов, текстов разнообразных исторических источников[584]. При ОИДР действовал свой исторический музей. Среди председателей этого общества можно назвать известных историков – С.М. Соловьева, И.Е. Забелина, В.О. Ключевского. Заметный след в истории ОИДР оставил историк, археограф, делопроизводитель Главного архива МИД С.А. Белокуров[585]. К новым начинаниям в этой области можно отнести основание в 1866 г. Русского исторического общества (РИО), называемого императорским. Возникшее на волне буржуазного реформирования, РИО взяло курс на разработку проблем российской истории послепетровского времени, с которым были связаны важнейшие преобразования российской жизни. К созданию этого общества были причастны члены царской семьи, в которой традиционно интерес к русской истории был повышенным. Попечителем и почетным председателем общества стал тогдашний цесаревич Александр Александрович (будущий император Александр III). В состав учредителей общества, кроме представителей чиновной среды[586], вошел историк К.Н. Бестужев-Рюмин. К деятельности РИО были причастны и другие видные петербургские историки: С.Ф. Платонов стал членом этого общества с 1902 г., после того как начал преподавать историю членам императорской фамилии, в 1914 г. в его состав вошел А.С. Лаппо-Данилевский. РИО находилось в ведении МНП и пользовалось покровительством и финансовой поддержкой императорского дома. Александр III и после воцарения посещал заседания общества, приобщая к его работе сына – вел. кн. Николая Александровича. Нередко заседания РИО проходили в царском Аничковом дворце. С деятельностью общества теснейшим образом был связан и вел.кн. Николай Михайлович, известный своими фундаментальными историческими трудами и получивший признание в профессиональной среде историков того времени. Практическими результатами работы РИО стали издания его научных сборников (к 1918 г. вышло около 1,5 сотни томов) и создание энциклопедического справочника «Русский биографический словарь». Последнее издание явилось в то время новаторской попыткой создания основ русской биографистики. Активную роль в его подготовке сыграл вел. кн. Николай Михайлович[587], которого можно считать инициатором этого проекта. К 1917-1918 гг. было опубликовано 25 томов запланированного издания, остальные подготовленные материалы остались в архиве РИО . Помимо отмеченных научных обществ можно выделить деятельность археологических обществ. Одним из первых было открыто Петербургское археологическое общество (в 1846 г.). Оно отличалось аристократическим составом и кастово-замкнутым характером деятельности. Вместе с тем численность его состава росла: в 1890 г. в него входило 300 человек, в 1915 – более 800. Петербургское общество имело свой археологический музей. Гораздо большей известностью и популярностью пользовалось организованное в 1864 г. по инициативе гр. А.С. Уварова Московское археологическое общество. С 1869 г. оно стало проводить археологические съезды. Они проходили не только в столичных городах, но и во многих других культурных центрах России. Съезды собирали, кроме собственно археологов, специалистов других отраслей исторической науки – архивистов, археографов, музейных работников, этнографов, искусствоведов. Региональная ориентация работы съездов содействовала развитию интереса к памятникам старины в широких слоях общества и способствовала открытию аналогичных обществ в других городах, например, в Тифлисе, Казани (при Казанском университете), Пскове, Новгороде, Твери, Ташкенте, Киеве (при Киевской духовной академии) и др. Среди других региональных обществ схожей направленности можно отметить деятельность Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), открытого в Екатеринбурге в 1870 г. Одним из инициаторов его создания, видным его представителем, долгие годы возглавлявшим работу УОЛЕ, являлся О.Е. Клер[588]. Активным деятелем УОЛЕ был уральский историк Н.К. Чупин[589]. Общество осуществляло просветительскую работу в области распространения знаний широкого спектра наук. Региональная история, краеведение и археология являлись приоритетными сферами его деятельности. Общество имело свое издание – «Записки УОЛЕ», публиковавшиеся на русском и французском языках. С 1873 по 1927 гг. общество издало 106 томов «Записок». За время существования УОЛЕ в его рядах состояло более 2,5 членов. Большой популярностью среди населения пользовался созданный при УОЛЕ музей, ставший основой ряда современных музеев Екатеринбурга.
Но длительное время после принятого решения исторический музей ограничивался музейным собранием его инициатора и не имел специального помещения. К 1874 г. был завершен конкурс на лучший проект здания музея. Конкурсная комиссия выбрала проект инженера А.А. Семенова и архитектора В.О. Шервуда, который по-разному был встречен в заинтересованных кругах ученых, искусствоведов и общественности: имел сторонников и противников. Строительство здания, и по сей день расположенное на Красной площади, было завершено только к 1883 г., и в этом же году были открыты первые 11 залов музея. В конце 1884 г. скончался Уваров, и практическим руководителем музея предложено было стать Ивану Егоровичу Забелину, известному знатоку российских древностей и историку Москвы[590]. Формально он значился товарищем председателя исторического музея (с1885 г.), а его официальным председателем с 1881 г. числился брат Александра III – вел. кн. Сергей Александрович. В творческой жизни И.Е. Забелина Российский исторический музей стал с этого времени главным предметом его интересов и забот. Историк до конца своих дней (до 1908 г.) оставался неутомимым его деятелем на поприще собирания и приобретения музейных коллекций, открытия новых залов и экспозиций музея, общего руководства его работой. Первоочередной задачей, с которой столкнулся И.Е. Забелин в начале своей музейной карьеры, являлось пополнение экспозиций музея. Его попытки создать приоритетные условия для получения музеем коллекций, поступавших в научно-академические структуры, подведомственные МНП, не увенчались успехом. Забелин в этих целях избрал путь установления деловых контактов с владельцами частных коллекций исторических памятников, инициируя их передать свои собрания национальному музею на основе благотворительных акций. Особенно актуальными для музея в то время были памятники, экспонирующие русскую историю XIV-XVII вв. Успех инициатив историка превзошел все ожидания. Этому содействовали связи Забелина с купеческой средой, а также внутриполитическая ситуация начала XX в.: в годы Первой русской революции богатые коллекционеры были обеспокоены сохранностью и судьбой своих домашних музейных ценностей. Из наиболее крупных дарений музею можно отметить передачу музею в 1905 г. коллекции П.И. Щукина, содержащей более 300 тыс. экспонатов в виде старинного оружия, произведений искусств, собрания тканей и шитья и т.д. В этом же году музею перешла коллекция церковных древностей и произведений декоративного искусства А.П. Бахрушина, представленная двумя тысячами экспонатов. Давние связи Забелина с литературными кругами позволили получить также памятные вещи, принадлежавшие ряду писателей, например, И.А. Гончарову, Ф.М. Достоевскому, Л.Н. Толстому. В результате собирательской деятельности в 1890-е гг. в историческом музее были открытии залы «Памятники Великого Новгорода и Пскова», «Памятники Владимира», «Московский зал» и др. Общая численность экспонатов музея выросла с 15 тысяч в 1886 г. до сотен тысяч в 1908 г.[591] . Очень быстро Исторический музей, выполняя просветительскую роль в распространении исторических знаний в широкие слои населения, стал одним из наиболее популярных музеев Москвы и страны. В начале XX в. музей посещало в среднем около 40 тыс. человек в год.
Хотя зарождение данного явления приходится на первую половину XIX в., но именно в пореформенный период происходит четко выраженный процесс статусного оформления исторической специализированной печати и приобретения ею своего места в русской журналистике и культуре[592]. По данным С.С. Дмитриева в 1861-1917 гг. в России выходило более ста исторических журналов[593]. Наиболее крупными и значимыми из них, получившими признание в научном сообществе и популярность в общественной среде являлись «Русский архив» (1863-1917), «Русская старина» (1870-1918), «Исторический вестник» (1880-1917). Первый из названных был основан и издавался Петром Ивановичем Бартеневым, окончившим в 1851 г. историко-филологический факультет Московского университета. Именно он положил начало отраслевой исторической журналистике. В 1850-е гг. П.И. Бартенев сотрудничал с журналами «Москвитянин», «Русская беседа». В 1859 г. состоялось его знакомство с Л.Н. Толстым. Именно Бартенев консультировал и редактировал первое издание «Войны и мира». Местом его службы являлся Московский главный архив МИД (1853-1858). Долгие годы впоследствии он заведовал так называемой Чертковской библиотекой[594] в М
Поиск по сайту: |
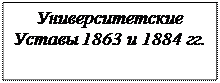 Важным условием существования науки и воспроизводства ее потенциала является государственная политика в ее отношении. В дореволюционной России эти аспекты истории науки связаны, прежде всего, с университетским вопросом. Политическая линия российского правительства в интересующей нас сфере наиболее выразительна в истории разработок университетских уставов. Как современники, так и исследователи данной проблемы[532] напрямую связывают историю университетских уставов (1804, 1835, 1863, 1884 гг.) с характером политических режимов, установившихся в периоды различных царствований XIX века. Временам либеральных правлений соответствовали уставы либерального профиля, реакционные режимы, связанные с политикой консервативных «откатов», становились причиной смены политического курса в сфере высшей школы и появлений уставов противоположной направленности. Не случайно, П.Н. Милюков соответствующий раздел своих «Очерков» сформулировал как «Борьба за школу и просвещение…», интерпретируя ситуацию вокруг разработки и утверждения университетских уставов как «борьбу между властью и общественностью»[533], что само по себе демонстрировало факт постепенного укоренения традиций высшего образования в российской среде. Особенно явственно эти тенденции просматриваются относительно пореформенного времени, когда в общественных кругах широко обсуждались проблемы образования, в том числе, высшего.
Важным условием существования науки и воспроизводства ее потенциала является государственная политика в ее отношении. В дореволюционной России эти аспекты истории науки связаны, прежде всего, с университетским вопросом. Политическая линия российского правительства в интересующей нас сфере наиболее выразительна в истории разработок университетских уставов. Как современники, так и исследователи данной проблемы[532] напрямую связывают историю университетских уставов (1804, 1835, 1863, 1884 гг.) с характером политических режимов, установившихся в периоды различных царствований XIX века. Временам либеральных правлений соответствовали уставы либерального профиля, реакционные режимы, связанные с политикой консервативных «откатов», становились причиной смены политического курса в сфере высшей школы и появлений уставов противоположной направленности. Не случайно, П.Н. Милюков соответствующий раздел своих «Очерков» сформулировал как «Борьба за школу и просвещение…», интерпретируя ситуацию вокруг разработки и утверждения университетских уставов как «борьбу между властью и общественностью»[533], что само по себе демонстрировало факт постепенного укоренения традиций высшего образования в российской среде. Особенно явственно эти тенденции просматриваются относительно пореформенного времени, когда в общественных кругах широко обсуждались проблемы образования, в том числе, высшего.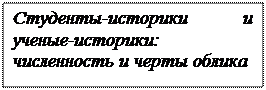 Специальный интерес может представлять вопрос о численности студентов-историков. Следует пояснить, что ведомственная статистика давала сведения о количестве студентов в рамках историко-филологических факультетов, не выделяя отдельно историков и филологов. Поэтому здесь и далее речь идет об общей группе студентов этих факультетов. По подсчетам Т. Бона в 1885 г. студентов историко-филологических факультетов всех российских университетов насчитывалось 1 194 человека, к концу 1890-х гг. в результате сокращения обучающихся – 685.[561] По сведениям Ю.В. Красновой относительно Санкт-Петербургского и Московского университетов с середины 1890-х гг. до 1905 г. на историко-филологических факультетах численность студентов начинает заметно расти: в Петербургском университете со 187 до 444 человек, в Московском – с 266 до 686 человек [562]. К сожалению, подобными сведениями относительно всех российских университетов, мы не располагаем.
Специальный интерес может представлять вопрос о численности студентов-историков. Следует пояснить, что ведомственная статистика давала сведения о количестве студентов в рамках историко-филологических факультетов, не выделяя отдельно историков и филологов. Поэтому здесь и далее речь идет об общей группе студентов этих факультетов. По подсчетам Т. Бона в 1885 г. студентов историко-филологических факультетов всех российских университетов насчитывалось 1 194 человека, к концу 1890-х гг. в результате сокращения обучающихся – 685.[561] По сведениям Ю.В. Красновой относительно Санкт-Петербургского и Московского университетов с середины 1890-х гг. до 1905 г. на историко-филологических факультетах численность студентов начинает заметно расти: в Петербургском университете со 187 до 444 человек, в Московском – с 266 до 686 человек [562]. К сожалению, подобными сведениями относительно всех российских университетов, мы не располагаем. Под инфраструктурой исторической науки будем иметь в виду систему специальных исторических дисциплин, а также научных, общественных и государственных институтов, которые формировались в процессе диверсификации исторического знания и создавались для оптимального обеспечения функционирования историко-научного сообщества и создания основ фундаментальности исторических исследований. Сфера исторической науки второй половины XIX – начала XX в. характеризуется, в частности, модернизацией архивного дела, дальнейшим развитием археографии, созданием системы научно-исторических обществ и кружков, становлением профессиональной исторической периодики, укоренением традиций новых для XIX в. отраслей исторических знаний – историографии, источниковедения, археологии, этнографии, а также комплекса так называемых вспомогательных исторических дисциплин.
Под инфраструктурой исторической науки будем иметь в виду систему специальных исторических дисциплин, а также научных, общественных и государственных институтов, которые формировались в процессе диверсификации исторического знания и создавались для оптимального обеспечения функционирования историко-научного сообщества и создания основ фундаментальности исторических исследований. Сфера исторической науки второй половины XIX – начала XX в. характеризуется, в частности, модернизацией архивного дела, дальнейшим развитием археографии, созданием системы научно-исторических обществ и кружков, становлением профессиональной исторической периодики, укоренением традиций новых для XIX в. отраслей исторических знаний – историографии, источниковедения, археологии, этнографии, а также комплекса так называемых вспомогательных исторических дисциплин.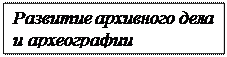 Преобразования в системе архивохранения были заметны уже с 30-50-х гг. XIX в., но наиболее существенные изменения происходят в пореформенное время[573]. В частности, организационным трансформациям подверглись архивы МИД, отделения которых в Москве и Петербурге уже в первой половине XIX в. стали центрами хранения исторических документов и базой научно-исследовательской деятельности историков. В 1864 г. произошло административное объединение этих отделений, в результате чего был создан Главный архив МИД с общим штатом и единым бюджетом. Однако по-прежнему два эти филиала существовали автономно, сохраняя значение двух важнейших собраний исторических источников.
Преобразования в системе архивохранения были заметны уже с 30-50-х гг. XIX в., но наиболее существенные изменения происходят в пореформенное время[573]. В частности, организационным трансформациям подверглись архивы МИД, отделения которых в Москве и Петербурге уже в первой половине XIX в. стали центрами хранения исторических документов и базой научно-исследовательской деятельности историков. В 1864 г. произошло административное объединение этих отделений, в результате чего был создан Главный архив МИД с общим штатом и единым бюджетом. Однако по-прежнему два эти филиала существовали автономно, сохраняя значение двух важнейших собраний исторических источников.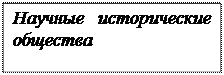 Традиция создания научных исторических обществ, как известно, сформировалась ещё в конце XVIII - начале XIX в. В рассматриваемое время она продолжала развиваться, обогащаясь опытом научно-исследовательской деятельности исторической науки в лице ученых и организационных структур[583].
Традиция создания научных исторических обществ, как известно, сформировалась ещё в конце XVIII - начале XIX в. В рассматриваемое время она продолжала развиваться, обогащаясь опытом научно-исследовательской деятельности исторической науки в лице ученых и организационных структур[583]. Нетрудно заметить, что создание музеев исторического профиля было тесно связано с деятельностью и развитием научно-исторических обществ различных типов и являлось результатом научных и общественных инициатив. Во второй половине XIX – начале XX в. складывается сеть подобных музеев. В то же время в научных и общественных кругах давно зрела мысль о создании государственного исторического музея, который бы олицетворял национальное прошлое страны и являлся постоянной площадкой экспонирования его культурно-исторических памятников. Непосредственным поводом для начала реализации этой идеи стала, организованная в 1872 г., Политехническая выставка, на которой был представлен специальный отдел, посвященный обороне Севастополя во время Крымской войны. В связи с этим возникло предложение использовать севастопольскую экспозицию в качестве основы для формирования будущего исторического музея. В феврале этого же года было принято решение об учреждении специального комитета, который должен был разработать проект деятельности музея. Инициатором его создания являлся историк и археолог гр. Алексей Сергеевич Уваров, который принимал непосредственное участие в организации севастопольского отдела Политехнической выставки. Его личная коллекция древних памятников была положена в основу будущего музея. Он же разработал первый проект его экспозиций, раскрывавших историю России с древнейших времен до периода правления Александра II.
Нетрудно заметить, что создание музеев исторического профиля было тесно связано с деятельностью и развитием научно-исторических обществ различных типов и являлось результатом научных и общественных инициатив. Во второй половине XIX – начале XX в. складывается сеть подобных музеев. В то же время в научных и общественных кругах давно зрела мысль о создании государственного исторического музея, который бы олицетворял национальное прошлое страны и являлся постоянной площадкой экспонирования его культурно-исторических памятников. Непосредственным поводом для начала реализации этой идеи стала, организованная в 1872 г., Политехническая выставка, на которой был представлен специальный отдел, посвященный обороне Севастополя во время Крымской войны. В связи с этим возникло предложение использовать севастопольскую экспозицию в качестве основы для формирования будущего исторического музея. В феврале этого же года было принято решение об учреждении специального комитета, который должен был разработать проект деятельности музея. Инициатором его создания являлся историк и археолог гр. Алексей Сергеевич Уваров, который принимал непосредственное участие в организации севастопольского отдела Политехнической выставки. Его личная коллекция древних памятников была положена в основу будущего музея. Он же разработал первый проект его экспозиций, раскрывавших историю России с древнейших времен до периода правления Александра II. Развитие исторического знания в изучаемое время трудно представить без отраслевой исторической журналистики, как, впрочем, и без широкого круга общественно-политических и литературных периодических изданий, которые в данный период в совокупности несли существенную нагрузку по трансляции научных идей и достижений историографии в широкую культурную среду. Роль периодики в исторической науке может быть подчеркнута в особенной степени, если процесс выработки исторического знания представлять в виде модели: историк – историческое исследование – читатель. Во второй половине XIX –начале XX в., в условиях модернизационных перемен, третий элемент этой схемы существенно активизируется: раздвигаются социально-сословные границы интересующихся историей, растет их численность. Этот процесс становится частью демократизации научной сферы жизни российского общества, и исторического знания, в частности, а также связан с явлением национальной самоидентификации, характерным для модернизирующейся России.
Развитие исторического знания в изучаемое время трудно представить без отраслевой исторической журналистики, как, впрочем, и без широкого круга общественно-политических и литературных периодических изданий, которые в данный период в совокупности несли существенную нагрузку по трансляции научных идей и достижений историографии в широкую культурную среду. Роль периодики в исторической науке может быть подчеркнута в особенной степени, если процесс выработки исторического знания представлять в виде модели: историк – историческое исследование – читатель. Во второй половине XIX –начале XX в., в условиях модернизационных перемен, третий элемент этой схемы существенно активизируется: раздвигаются социально-сословные границы интересующихся историей, растет их численность. Этот процесс становится частью демократизации научной сферы жизни российского общества, и исторического знания, в частности, а также связан с явлением национальной самоидентификации, характерным для модернизирующейся России.