 |
|
|
Архитектура Астрономия Аудит Биология Ботаника Бухгалтерский учёт Войное дело Генетика География Геология Дизайн Искусство История Кино Кулинария Культура Литература Математика Медицина Металлургия Мифология Музыка Психология Религия Спорт Строительство Техника Транспорт Туризм Усадьба Физика Фотография Химия Экология Электричество Электроника Энергетика |
Тернистый путь Афанасия Прокофьевича Щапова (1831-1876): историк из народа в поисках версии народной истории
Избранная проблема в период ожиданий отмены крепостного права приобретала политическое звучание. 8 млн. старообрядцев в России, десятилетиями гонимых и опальных, теперь в глазах общественности стали приобретать статус социальной группы, требующей полного освобождения от преследований. Правительство продолжала держать контроль над старообрядческими общинами. Незадолго до появления первых публикаций Щапова на эту тему, чиновник особых поручений МВД – П.И. Мельников, выступавший под псевдонимом Андрей Печерский при издании литературных произведений, написал в 1853-1854 гг. отчет[493] о положении старообрядцев Нижегородской губернии. Впоследствии изучение ими этой социокультурной группы причудливым образом окажется взаимосвязанным[494]. Характеристика старообрядцев в отчете Мельникова имела двойственный характер: с одной стороны, он не скрывал своих симпатий к этой группе, с другой предупреждал об их политической неблагонадежности. Именно его отчет (без имени автора), в процессе начатого Щаповым исследования, попал в руки историка, став одним из его источников. А.П. Щапов начал публикацию своей диссертации «О причинах происхождения и распространения раскола» в 1857 г. в «Православном вестнике». Молодой ученый первоначально трактовал раскол в духе церковных историков того времени. Но неожиданно он прервал публикацию. На это были причины. Статья была замечена А.Н. Пыпиным, который критически заметил, что при изучении раскола следовало бы не забывать обстоятельств, могущих оправдывать оппозиционное движение раскольников. Это замечание, а также содержание отчета Мельникова, знакомство с демократическими идеями Герцена заставили Щапова переработать диссертацию и дважды (1858, 1859) издать ее в виде книги «Раскол русского старообрядства»[495]. В истории раскола А.П. Щапов теперь выделял два периода. Первый он трактовал как время раскола в истории русской церкви, второй – связывал с процессом проявления раскола в сфере народной жизни, полагая, что раскол приобрел «гражданский характер». Из предисловия к изданию книги ясно, что автор пытался показать раскол как форму социального протеста низших классов. Он считал, что внимание необходимо сосредоточить на изучении исторической жизни народа, вызвавшей это протестное движение. В то же время он полагал, что участники этого движения отклонились от прямого пути православной церкви, были привержены старине, а им противостояли прогрессивные деятели в лице патриарха Никона и Петра Великого. Появление нового исследования вызвало множество рецензий в периодических изданиях. Даже С.М. Соловьев положительно отозвался на его книгу, написав свой отзыв в журнале «Атеней» (1859). На страницах демократической прессы началось полемическое обсуждение книги. Критика шла от журнала «Современник». Н. Добролюбов и М. Антонович назвали работу клерикальной, а взгляды Щапова квалифицировали как реакционные. С защитой исследования историка выступил в «Отечественных записках» К.Н. Бестужев-Рюмин, оценивший научные достоинства его сочинения. Современная исследовательница Е.А. Вишленкова, характеризуя некоторый ажиотаж вокруг книги Щапова, пришла к выводу, что он явился следствием идейной борьбы, развернувшейся накануне реформы, и носил в определенной мере искусственный характер. В пылу идейных полемик и в пропагандистских целях представители различных идеологий не только оценивали по-разному роль старообрядцев в истории, но и быстро меняли свои оценки. Менялось отношение и к Щапову. В 1860 г. Антонович еще упрекал его за его вывод о невежестве старообрядцев, а в дальнейшем «Современник» использовал его книгу для обличения историков-государственников. Представители правительственного лагеря также сменили акценты в своих подходах: мнение обер-прокурора Синода графа Д.А. Толстого о запрете книги Щапова осталось втуне, а критическое отношение к старообрядцам сменилось представлением о верноподданническом характере их настроений. Этот подход получил выражение в новой записке П.И. Мельникова-чиновника («О расколе», 1857), призывавшей не преследовать старообрядцев, а проявлять к ним толерантность[496]. Эту позицию А. Мельников-Печерский в качестве писателя пытался реализовывать в своих литературных произведениях.[497] Но его, как правительственного чиновника, демократическая печать не принимала, подвергая критике. В зоне ее критического восприятия оставался и Щапов. Критическая позиция в его адрес со стороны демократического издания глубоко задела историка. Он решает вновь пересмотреть свою концепцию раскола, и в 1860-1861гг. в «Отечественных записках» публикует новую версию под названием «Земство и раскол»[498]. Более определенно, чем прежде, причины раскола Щапов связывает с тяготами «от тягла государевой казны, от злоупотребления государевых чиновников, писцов, дозорщиков, от насилия бояр». Старообрядцы выступали у него носителями народовластия, противостоящими государственной централизации: раскол, в конечном итоге, ему представлялся «могучей страшной оппозицией податного земства». Протестные движения старообрядцев Щапов напрямую соотносит с известными народными восстаниями – под руководством С. Разина, Е. Пугачева, в Соловецком монастыре, стрелецкими бунтами. Как заметила Е.А. Вишленкова на основе сравнительного анализа текстов, это наблюдение Щапов заимствовал из мельниковского «Отчета»[499]. Близкой ему стала и идея Мельникова о широкой грамотности староверов. Подобных фактов и выводов не наблюдалось в его более ранних работах. Новая версия существенно была откорректирована им в духе демократического взгляда «Современника». Интересно отметить вместе с тем, что выводы двух исследователей о социально-политическом потенциале и судьбе старообрядчества как явления не совпадали. Если Щапов полагал, что идеалы старообрядцев, связанные с мечтой о «народосоветии», составляют основу будущего демократического переустройства общества, то Мельников был в большей мере реалистом. Он в другом – публицистическом сочинении – «Письмах о расколе»[500] считал, что правительство должно отказаться от преследования староверов именно потому, что у них не было политического будущего; они не опасны правительству. Это мнение писателя и вызывало основную критику со стороны его оппонентов из революционно-демократического лагеря. Между тем взаимопроникновение идей и наблюдений двух авторов относительно истории раскола и старообрядчества приобретало сложную форму. В «Письмах о расколе» Мельников отреагировал на первую книгу Щапова, признав в нем интересного исследователя; заметил он и факт использования им своего «Отчета». Однако то, что историк использовал его материал для выводов, которые им самим не предполагались, смутили писателя-публициста. Явная связь мельниковского отчета и работы Щапова была не в пользу Мельникова-чиновника. Не желая навлекать на себя подозрений в близости к демократически настроенным кругам, Мельников, как замечает Е.А. Вишленкова, постарался отмежеваться от Щапова, обвинив его в искажении фактов, в «неудержимой фантазии» и пренебрежении истиной[501]. Уже современники имели возможность сравнить различные подходы двух исследователей к проблемам раскола. Почти одновременное появление щаповской публикации «Земство и раскол» и «Писем» Мельникова, вызвало очередной круг полемики. У Щапова было немало приверженцев, но академическая среда и демократическая печать откликнулись на новый труд критически и сдержанно. С.М. Соловьев не принимал в труде Щапова вольного обращения с источниками и идеализацию старообрядчества, а демократическое крыло печати, в лице А.Н. Пыпина, недостатки труда связывало с субъективностью авторских оценок. Представители власти в лице тогдашнего министра государственных имуществ А.Н. Муравьева увидели в работе «протест против правительства» [502].
11 ноября 1860 г. состоялась вступительная лекция Щапова – «Общий взгляд на историю великорусского народа»[504]. В ней он представил широкое историческое полотно, доведя обзор русской истории до 14 декабря 1825 г. Именно в ней он наиболее выразительно раскрыл свой общий подход, заявив свою приверженность не идее государственности, а идее «народности и общинности». Созвучно мыслям вступительной лекции Костомарова Щапов уточнял для слушателей, что «главный фактор в истории есть сам народ, дух народный, творящий историю», «сущность и содержание истории – есть жизнь народная»[505]. Именно здесь он зафиксировал две формы общественной жизни народа – «земско-областную» и «государственно-союзную». Предметом исторического изучения он провозглашал не только «жизнь народную», но и такое оригинальное «начало» русской истории, как «областность». Он утверждал, имея в виду географические (большое пространство) и историко-этнографические (полиэтничность) особенности России, что ее история слагается из историй отдельных территориальных областей, осваиваемых народом в ходе исторически обусловленной их колонизации. Подчеркивая, что «самообразование областей путем колонизации» отличает ход русской истории от европейской, А.П. Щапов выдвигал в качестве актуальной задачи изучение «местного саморазвития» во всем разнообразии его проявлений. Идеи вступительной лекции Щапова о земском областном устройстве в виде «народосоветия», его мысль о противостоянии народа и власти по мере укрепления централизации и государственности, составят лейтмотив многих его последующих сочинений. Характеризуя угнетенное положение народа, он воспользовался характеристикой «одного иностранного писателя» (очевидно, имелся в виду А. де Кюстин) для того, чтобы подчеркнуть разобщенность нации, разделенной на «два народа»: «один на высоте цивилизации, другой под страхом полиции»[506]. История «подлого народа», «безгласного, сдавленного, пассивного низа» превращается не только в предмет исследования, но актуализируется ожидаемыми переменами во внутриполитической жизни – отменой крепостного права. Время предреформенной «оттепели» придало заключительной части лекции историка особо выразительный характер публицистического выступления, выполненного в либерально-демократическом духе. Упомянув А.Радищева и Н.Новикова и дойдя до эпохи Александра I , Щапов характеризует ее как время, пропитанное идеями свободы и либеральных ценностей. Оно пробудило в «высших классах народа» «моральное и политическое самосознание и саморазвитие» и породило появление тайных обществ. Одним из первых историк открыто называет общества декабристов и преподносит их как позитивный итог русской истории, демонстрирующий развитие народного самосознания и самообразования[507]. Сопоставляя подходы Щапова и Костомарова, нельзя не подчеркнуть, что первый из них критически относился к концептуальному взгляду второго историка. Щапова не удовлетворяло отсутствие у Костомарова обоснований социального противостояния народа и власти, актуализации изучения народного протеста, в рамках которого он изучал и раскол. «Единодержавный уклад», который выделил в русской истории Костомаров, был им воспринят критически, поскольку, считал он, «единодержавный уклад может быть допущен только в истории государства, а не в истории народа».[508] Несомненно, взгляды Щапова свидетельствуют о занимаемой им более радикальной позиции, чем она была у Костомарова. Это выразилось и в тех оценках, которые он дал во вступительной лекции трудам С.М. Соловьева. Придавая «Истории» Соловьева «огромное научное значение» и видя в нем оппонента Костомарова, он со своих позиций определил смысл труда Соловьева, полагая, что он – не более как «биография царей и князей, а не всецелая биография или история народа»[509]. Гражданская смелость Щапова особенно выразительно проявлялась в цикле лекций, которые он читал конспиративно. Темы этих лекций касались запретных сюжетов русской истории – народных выступлений, восстания декабристов и тайных обществ первой четверти XIX в., вопросов разработки российской конституции. Именно последняя тема была им своеобразно озвучена в выступлении на панихиде по жертвам Бездны. Свою речь Щапов закончил призывом: «Да здравствует, да будет общинно-демократическая конституция!»[510] Он и стал причиной последовавшего ареста историка и препровождения его для расследования обстоятельств дела в Петербург[511].
Называя себя «демократом», защитником «голытьбы» и «другом федеральной союзной общинно-демократической конституции», А.П. Щапов высказал мысль, что русская конституция должна быть создана представителями народа, теми, «кого меж себя излюбят и выберут». Его уверенность в истинности такой политической идеи опиралась на исторический опыт Земского собора времен Смутного времени, интерпретируемый им как факт «народосоветия» и народного волеизъявления. Толкование исторического факта преподносится в окраске демократических идей, сам подход и оценки Щаповым Земских соборов (прежде всего, Собора 1613 г.) можно охарактеризовать как наивно-утопические: «Сам народ дал царю запись, какова уложена была по Совету всей земли, запись, ограничительную для самодержавия (подчеркнуто – А.П. Щаповым)»[513]. Письмо наполнено эмоционально-экспрессивными по характеру, метафорическими по форме обличениями власти и властьпридержащих. Антипатии у него вызывает «каста дворянская, княжеская, графская, помещичья»: «Эта физиологически изгнивающая, генеративная, родовая, геральдическая, столбовая каста налегла на земство, особенно на сельский народ, всею тяжестью землевладельческого, крепостного самовластия и грабежа, насилия и буквально поядания крестьянской крови…»[514]. Не мене выразительно он характеризовал военную и чиновничью касты. Именно от их засилья «бежал бегун и создал великий демократический соглас, оппозиционный всей системе императорского совета и правительства»[515]. Симпатии историка на стороне простого народа вместе с его предводителями и его просвещенными защитниками – А. Радищевым, Искандером. В качестве политического манифеста выглядит его предложение к императору, высказанное в письме. Щапов считал, что народ должен либо сам выступить с инициативой нового Земского собора, либо царь должен его сам созвать. При этом царю предлагалось, во избежание «предстоящей русской революции», «…отречься от императорства и централизации – дать автономию Польше, Украйне, Великороссии, Сибири и всем провинциям и создать федеративную социал-демократическую конституцию, союзное, общинно-демократическое земское народовластие»[516]. Петербургский период жизни Щапова связан с бурной научной работой историка, сопровождавшейся поиском нового подхода к изучению русской истории, который бы позволил создать актуальный исторический взгляд на прошлое российского народа. Актуальность своей научной деятельности Щапов связывал, в первую очередь, с проблемами просвещения народа, что должно было содействовать формированию его самосознания и самоорганизации. Прошлый опыт народной жизни, внедрение в современную народную среду широких научных знаний должны были стать практическим вкладом науки в процесс обновления российской социально-политической жизни. В этот небольшой хронологический отрезок (1861-1864) его исследовательские интересы от истории раскола переходят к дальнейшей разработке проблемы «областности», как специфическому началу русской истории. Она вошла в историографию как земско-областная теория историка. Одной из первых работ, в которых он поднимает эту проблему, стала, опубликованная в 1861 г. в «Отечественных записках», статья «Великорусские области и смутное время (1606-1613)». Доказывая актуальность истории «местного саморазвития» и «внутренней жизни областей», А.П. Щапов, имея в виду «обширнейшие» размеры России, подчеркивал: «Русская история, в самой основе своей, есть, по преимуществу, история областей, разнообразных ассоциаций провинциальных масс народа – до централизации и после централизации»[517]. Актуальность выдвинутого им взгляда на русскую историю подчеркивалась современной ситуацией начавшегося освобождения крестьян. В контексте этого процесса, сопровождавшегося, по мысли историка, началом формирования гражданского сознания бывших крепостных, необходимо было «пробудить провинциальную жизнь к местной самодеятельности, к местному саморазвитию» и «местно-областному историческому самосознанию»[518]. Тема Земских соборов, всегда интересовавшая его особо подчеркнутая в письме Вяземскому, получает освещение с позиций его демократической программы. Представленный им исторический очерк народной истории времен Смуты рисовал яркие картины деятельности народной среды, воплощенной в общинном быте, и разнообразные типы народного протеста. Он был убежден в том, что традиция земских соборов связана с народной инициативой. Называя Земский собор 1613 г. «великим земским советом», просуществовавшим четыре месяца в форме «всенародного земского правительства», он рассматривал этот факт как традицию народного представительства: «Выборные земские люди, избрав царя всею землею по совету всей земли (подчеркнуто – Щаповым), удержали за народом право на земские соборы и на общинно-областную челобитную гласность и представительность перед правительством»[519]. В серии последующих работ о земских соборах А.П. Щапов выдвинул «три великих принципа областной народной жизни»: «принцип федеративной союзности», «принцип местной областной совещательности», «потребность всеобщего земского народосоветия»[520]. В целом, теория областничества А.П. Щапова опиралась на идею народной истории, развивавшейся в традициях общинной жизни, и мысль о способности народных масс, освоивших большие территории государства, к самоорганизации и самоуправлению. В конце своего пребывания в Петербурге А.П. Щапов увлекся идеями теоретиков геодетерминизма Г. Бокля и К. Риттера, связанными с выдвижением приоритетного значения в историческом процессе географического фактора и знаний о природе. Большую роль в появлении нового методологического поворота в научной биографии Щапова сыграл известный публицист и литературный критик Д.И. Писарев, сотрудничавший с журналом «Русское слово» и являвшийся проводником идей западноевропейских ученых. Под влиянием системы взглядов Писарева историк поставил перед собой вопрос о значении естественных наук и естественнонаучного знания в эволюции человечества и в русской истории. На новом этапе творческой жизни А.П. Щапов назовет свое прежнее увлечение областнической теорией, «земством и земским саморазвитием» «idea fix», полагая, что все его прежние рассуждения оставались только теорией, которая возникла в силу отсутствия у него и его сторонников естественных знаний. Теории, по его мнению, не могут изменить положения народа, если он остается «груб, неразвит, суеверен, невежественен оттого, что не знает природы…». Свои новые взгляды историк излагает в статье «Естествознание и народная экономия», опубликованной в 1864 г. в журнале «Русское слово». Весной 1864 г.относительно лояльное отношение власти к Щапову сменилось на репрессивное: он был обвинен в связях с А.И. Герценом и подвергнут административной высылке в Иркутск. Вдали от интеллектуального окружения, с подорванным здоровьем, отсутствием постоянного заработка, лишенный возможности пользоваться необходимыми источниками научной информации, А.П. Щапов продолжал писать свои научные труды с позиций нового «естественно-антропологического» подхода. Опираясь на общую мысль о необходимости внедрения в народную среду естественнонаучных знаний, он развернул свой взгляд на изучение процесса осознания человечеством необходимости адаптации в ходе его исторического развития к миру природы и познания его законов. Имея в виду русский народ, Щапов полагал, что его магистральный путь должен идти по линии «природа – человек». Уступая Западу в уровне «высших индустриальных способностей и знаний», Россия, по его словам, должна была следовать за «мощной мыслью Запада». Идея заимствования в ходе русской истории модернизационного опыта европейского мира характеризует вектор его взглядов как прозападнический. В последние годы жизни историк публикует серию статей, сами названия которых отражают его новый подход: «Физическое и астрономическое миросозерцание и социальное развитие русского общества», «О влиянии гор и моря на характер поселений», «Историко-географическое распределение русского народонаселения», «Историко-этнографическая организация русского народонаселения», «Общий взгляд на историю интеллектуального развития России» и другие. Среди его сочинений последних лет жизни выделяется труд «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа» (СПб., 1870), в котором была сделана одна из первых попыток обратиться к интеллектуальной истории и определить этапы развития «умственной жизни народа» в процессе его взаимодействия с государством и властью. Щапов поставил вопрос о воздействии системы государственной опеки на характер мыслительной деятельности народа, ограничивавшей его просвещение и интеллектуальное развитие. Оценка этой последней части наследия историка в историографии неоднозначна. Еще в дореволюционный период современники Щапова разошлись в характеристике приверженности его новым идеям. Одни полагали, что увлечение естественными науками «испортило» его прежние замыслы и исследовательский почерк (Н.Я. Аристов), другие это расценивали, как инновационную попытку Щапова проникнуть в глубины человеческой истории (Г.А. Лучинский). Особое место в историографии творчества А.П. Щапова занимает отзыв В.О. Ключевского, сразу откликнувшегося на его труд об «умственном развитии русского народа». В то время Ключевский, еще молодой историк, писавший свою магистерскую диссертацию и пытавшийся через «жития» уловить мир идей монастырской среды, подчеркивал новаторство Щапова, обратившегося к неизученным «слоям» российской истории. «Умственная жизнь – один из наиболее сокровенных, глубоко лежащих слоев, – и наша русско-историческая литература едва коснулась его, занятая ближе лежащими сферами, например, политическим или юридическим развитием Руси». Оценивая значение книги Щапова, Ключевский подчеркивал ее достоинства: «она вводит читателя в сокровенные глубины народной жизни, куда неохотно заглядывает наша ученая литература; по концепции и основному приему исследования она отличается философическим характером, восходит в высшие сферы исторического ведения, где наша исследовательность вообще чувствует себя не как дома. То и другое только возвышает цену рассматриваемого трактата»[521]. В современной историографии (А.Н. Цамутали) творческие поиски «позднего» Щапова рассматриваются в контексте тех научно-теоретических тенденций, которые связаны с идеями В.И. Вернадского о единстве природы, биосферы и истории человечества, поддержанными впоследствии Л.Н. Гумилевым[522]. Резюмируя, можно подчеркнуть, что и Н.И. Костомаров, и А.П. Щапов к концу творческой жизни, каждый по-своему, совершили своеобразный антропологический поворот в своих исследованиях. Оба считали, что главный объект исторического изучения – человек и социум (народ) – является многомерным феноменом, для изучения которого требуется использование различных знаний. Если Костомаров апеллирует к их совокупности, идущей от познавательного потенциала гуманитарно-художественного метода понимания истории, то Щапов в своих исторических изысканиях опирается на достижения естественнонаучной области знания. Два подхода к изучению народной истории, заложенные Костомаровым и Щаповым, дополняя друг друга, до сего времени сохраняют актуальность. Тот и другой историк, выстраивая, по сути, свои исследовательские стратегии на базе междисциплинарного/межпредметного подхода, применительно, конечно, к научному опыту своей эпохи, выглядят историками-новаторами.
Приложение Фрагмент из статьи Н.Н. Алеврас «Н.И.Костомаров на перекрестке эпох, культурных стилей и жанров: опыт исторической антропологии в изображении семейной истории Петра I»[523]
…Исторические личности изображены на картине (речь идет об упомянутой в тексте лекции картине Н.Н. Ге – Н.Алеврас) в момент драматического и тягостного объяснения отца и сына. Не пройдет и месяца, как царевича придадут казни. Семейная драма имела основой сложное переплетение межличностных противоречий и различного представления героев, какой должна быть Россия. Художник закладывал в свой сюжет и историософскую, и документально-историческую, и семейно-драматическую подоплеку. Очерк Н.И. Костомарова, о котором ниже пойдет речь, можно рассматривать как исторический комментарий к живописному портрету Ге. Отталкиваясь от финальной сцены, изображенной на картине, историк предлагает ретроспекцию всей семейной истории царя и его сына[524]. Несколько ранее, в 1871 г., Костомаров опубликовал не менее известное сочинение «Личность царя Ивана Васильевича Грозного», в котором поставил вопрос о сущностных критериях определения «великого человека» в истории. Исходя из собственных представлений об этом феномене, историк отказывал Ивану Грозному в этом статусе, противопоставляя ему истинно великого Петра I. Эта тема продолжена и в «Царевиче», но образ царя-преобразователя в нем уже лишен однозначности прежнего вывода. Избранный историком ракурс освещения фигуры Петра I, поставленной в контекст семейной коллизии, заставил Костомарова откорректировать его облик. Традиционная характеристика Петра как государственного деятеля, удостоившегося определения «великий», дополнена разворотом в область личной жизни императора. Читателю было предложено увидеть Петра в повседневной жизни в образе мужа и родителя. Семейная драма царского дома поставлена историком на передний план повествования, что подвергло трансформации привычную модель изображения царя как «великого человека». На весы исторического и читательского суда Костомаров поставил, с одной стороны, потенциал его личности как монарха-преобразователя, с другой – сугубо человеческие качества его натуры. Для постижения психологической основы поступков своих героев Костомаров опирается на богатый комплекс переписки Петра I, Алексея Петровича, Евдокии Лопухиной, свидетельств современников, документов следственного дела царевича, что позволяло реконструировать морально-нравственные грани изучаемых личностей, мотивацию их поведения и перипетии внутрисемейных отношений. Действующие лица повествования под пером историка обретали «плоть и кровь», оживали в диалогах переписки, думали, говорили, страдали языком своего времени. Сам факт использования текстов источников личного происхождения, часто передаваемых излюбленным стилем прямой речи, являлся для Костомарова и аргументом доказательности авторской интерпретации семейной истории царя, и методом реконструкции исторических образов, и основой художественности и образности исследовательского дискурса. Историк дает возможность читателю понять внутренние мотивы поступков, взаимоотношений персонажей и одновременно, в стиле драматической пьесы, погружает его в эмоционально-психологическую атмосферу событий. Детально освещая семейную историю императора по линии: Петр I – Евдокия Лопухина – Алексей Петрович, Костомаров намеренно демонстрирует читателю проявление личностных моделей поведения главных героев в двух ипостасях – как людей, выдвинутых судьбой на государственное поприще, и как личностей в их психологическом и бытовом самовыражении. Пытаясь выяснить истоки раскола между отцом и сыном, Костомаров входит в детали личной жизни царя. Разрыв с нелюбимой женой Евдокией Лопухиной и увлечение Анной Монс интерпретируются историком как проявление борьбы царя с традициями старой России и насаждением новой, «иноземной» по происхождению, культуры. Костомаров подчеркивал, что Петр I не только не чувствовал влечения к Евдокии, но и осознавал, что она не могла удовлетворять его интеллектуальным потребностям. Так или иначе, Костомаров в личной истории Петра видит квинтэссенцию исторической драмы всей страны. Правила исторической логики позволяют ему на рациональном уровне объяснить читателю линию поведения Петра, исходящую из общей стратегии его преобразований, но Костомаров на этом не останавливается. Ему важно дать нравственную оценку его отношения к матери Алексея, грубо отвергнутой Петром, насильственно заточенной в монастыре, оставленной без средств существования, разлученной с сыном. В этой коллизии он пытается найти «ключ к объяснению того характера, с каким Алексей является в истории». Внутрисемейные причины оппозиции сына отцу коренятся в «утесненном», «угнетенном» положении матери, вследствие чего «Алексей не мог любить отца»[525]. Да и отец, подчеркивал историк, «не любил сына, который напоминал ему ненавистную жену»[526]. Признание его своим наследником сделано было «по нужде»: заменить его было некем. Сын оказался на стороне матери, «возненавидев иноземщину» и став олицетворением старых «московско-русских» традиций. Он выбрал позицию противостояния отцу не только в семейной истории, но и в реформационной политике своего родителя. Костомаров, по сути, пишет историю того, как сын стал жертвой своего отца. Он прослеживает процесс воспитания и становления личности царевича, эволюцию его характера под прессом нелюбви и преследований родителя. Жизненные обстоятельства подростка (запреты видеться и переписываться с матерью, отсутствие «отеческой ласки») заставляли его таиться от отца, проявлять осторожность, опасаться доносов, быть с ним неискренним. С годами – в ракурсе проблем наследования – Петр стал смотреть на сына как на соперника и врага своих детей и жены Екатерины. Когда Алексей понимает, что эта проблема может стоить ему жизни, он вынужденно скрывается за границей. Но эти и другие коллизии в судьбе царевича не вызывают в Костомарове сочувствия к его личности. «Умственная нищета», «неспособность к истинной вере», «мелкая трусость», тщеславие, мечты о власти, готовность самому стать первым врагом отца и другие черты его натуры, в подробностях раскрытые Костомаровым, заставляют историка ужасаться при мысли о возможности видеть Алексея на троне. Глядя на картину Н.Н. Ге, Костомаров приходит к выводу: «Это человек, забитый деспотизмом, но всегда желающий деспотствовать над другими»[527]. Перед Костомаровым вставала проблема оценки, содеянного Петром Великим в отношении жены и сына. Оправдывать или порицать царя-преобразователя, – главный вопрос, вставший перед историком. Проблема была непростой, если учитывать известную научную оппозицию, которую историк выдерживал в отношении «государственной школы» в историографии, и демократическую окраску его общей концепции российской истории. Внутренние убеждения Костомарова не давали поводов для какой-либо идеализации Петра I. Но стремление к исторической объективности, сравнительный анализ образов российских монархов, собственная уверенность в правильности выбора Петром европейского вектора движения России являлись основанием видеть в преобразователе неординарную личность. Не менее важно иметь в виду моральные принципы, религиозно-нравственные мотивы, которым строго следовал Костомаров в собственных жизненных коллизиях. Они не могли не вызвать двойственного отношения к Петру I и заставили историка сделать его фигуру объектом психолого-педагогического наблюдения. Поэтому в композицию очерка лейтмотивом легли морализаторские рассуждения, сентенции и назидания. В стиле ученых-просветителей Костомаров свои историко-психологические наблюдения подает читателям как рефлектированный им негативный опыт человеческих отношений, как своеобразный урока истории, применимый не только к семейному институту правящей династии, но и к частной жизни каждого человека. Именно в этом главная злободневность психолого-педагогических этюдов костомаровского очерка. Вся линия поведения царя в отношении к первой жене Евдокии однозначно трактуется историком как безнравственная, идущая вопреки религиозным и общечеловеческим заповедям. Это, подчеркивал он, вызывало многочисленные факты порицания царя в народной среде. Костомаров констатирует, что подобных дел «не видала Русь за своими царями уже более столетия»[528]. При всей антипатии историка к личности Алексея и понимании его полной неготовности к исполнению роли монарха, он бескомпромиссно осуждает царя: «Если на поступок Петра смотреть с той нравственной точки, которая не может измениться ни при каких условиях времени, то этот поступок не имеет оправдания»[529]. Показывая, что царь оказался плохим родителем и воспитателем для старшего сына, а потом предал его «мукам и смерти», Н.И. Костомаров подчеркивает закономерность этого шага как звено в целой цепи совершенных им несправедливостей. В контекст этих несправедливостей, он ставит и чрезмерное нетерпение, насилие в его преобразовательных экспериментах, что вызывало недовольство в широких слоях населения. Собранная историком совокупность содеянного в отношении первой жены и сына, дает основание читателю не сомневаться, что царь-преобразователь в частной жизни выступал как деспот и палач. Борясь со стариной, он сохранил в себе ее рудименты, которые реализовал в семейной истории. Более того, по Костомарову, Петр «не уразумел» плодотворности иного, цивилизованного, подхода в политике реформ, сам оказался не подготовленным и не воспитанным в традициях европейского опыта преобразовательной деятельности[530]. Отсюда, как можно догадываться по авторскому подтексту, проистекали проблемы неприятия современниками многих начинаний Петра I. Несмотря на критический взгляд и моральное осуждение Петра, Костомаров все же не лишает его определения «великий». Квалифицируя его проступки как «несправедливости», он предлагает читателю особо «не чернить» и «не порицать» царя: ведь вся история государств «преисполнена неправдами», которые вошли в основу правосудия и в человеческую повседневную привычку. Горестно заключая статью изречением – «всяк человек – ложь», историк не берет на себя заключительное слово судьи, оставляя читателю возможность вынести собственный приговор царю и оценить его личность сообразно своим представлениям о нравственной основе и значении человеческих качеств в судьбе любого государственного деятеля. Композиционное построение рассматриваемой статьи, в которой судьбы всех персонажей оказываются зависимыми от поведения и решений Петра I, дает основание считать, что именно он, а не его сын, является центральной фигурой и главным героем исторического очерка «Царевич Алексей Петрович».
Поиск по сайту: |
 Выходец из семьи сельского священника, А.П. Щапов[492] получил образование в бурсе, а потом в духовной семинарии Иркутска. Проявленные способности в годы обучения стали основой рекомендации его в Духовную академию в Казани, которую он окончил в 1856 г. и был оставлен в ней в качестве преподавателя. В стенах академии Щапов определяется с темой своих первых исследований. Поступившая в Казанскую академию богатая коллекция документов из Соловецкого монастыря, освещавшая историю раскола, привлекла внимание молодого ученого и была положена в основу его магистерской диссертации. Процесс работы над диссертацией: неоднократная концептуальная переориентация историка и публикация разных вариантов версии истории русского раскола характеризуют в нем ищущую, мятежную натуру.
Выходец из семьи сельского священника, А.П. Щапов[492] получил образование в бурсе, а потом в духовной семинарии Иркутска. Проявленные способности в годы обучения стали основой рекомендации его в Духовную академию в Казани, которую он окончил в 1856 г. и был оставлен в ней в качестве преподавателя. В стенах академии Щапов определяется с темой своих первых исследований. Поступившая в Казанскую академию богатая коллекция документов из Соловецкого монастыря, освещавшая историю раскола, привлекла внимание молодого ученого и была положена в основу его магистерской диссертации. Процесс работы над диссертацией: неоднократная концептуальная переориентация историка и публикация разных вариантов версии истории русского раскола характеризуют в нем ищущую, мятежную натуру.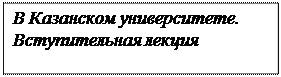 Для того чтобы проследить судьбу Щапова-историка и личности, обратимся к началу 1860-х гг., когда в жизни Щапова произошел крутой поворот. Уже с 1860 г. он ведет преподавание сразу в двух высших учебных заведениях Казани: кроме Духовной академии, где читал курс церковной истории, начинает работать в Казанском университете. Его переходу в университет содействовали ректор А.П. Бутлеров и попечитель Казанского университета князь П.П. Вяземский[503].
Для того чтобы проследить судьбу Щапова-историка и личности, обратимся к началу 1860-х гг., когда в жизни Щапова произошел крутой поворот. Уже с 1860 г. он ведет преподавание сразу в двух высших учебных заведениях Казани: кроме Духовной академии, где читал курс церковной истории, начинает работать в Казанском университете. Его переходу в университет содействовали ректор А.П. Бутлеров и попечитель Казанского университета князь П.П. Вяземский[503].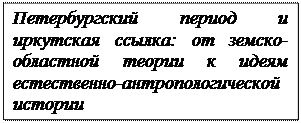 Наиболее откровенно свои взгляды и исторические оценки социальных сил русской истории А.П. Щапов изложил в письме князю П.П. Вяземскому, написанному в период петербургского следствия над ним в октябре 1861 г. [512]
Наиболее откровенно свои взгляды и исторические оценки социальных сил русской истории А.П. Щапов изложил в письме князю П.П. Вяземскому, написанному в период петербургского следствия над ним в октябре 1861 г. [512]