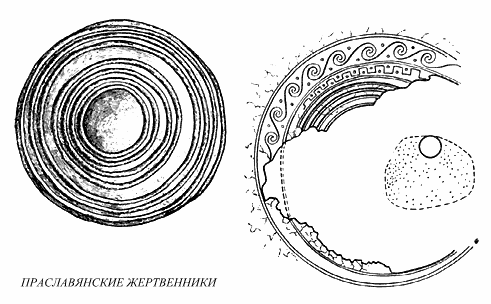|
|
|
Архитектура Астрономия Аудит Биология Ботаника Бухгалтерский учёт Войное дело Генетика География Геология Дизайн Искусство История Кино Кулинария Культура Литература Математика Медицина Металлургия Мифология Музыка Психология Религия Спорт Строительство Техника Транспорт Туризм Усадьба Физика Фотография Химия Экология Электричество Электроника Энергетика |
Общественный костер в день летнего солнцестояния (Купала), когда особенно выступает у всех славян символ солнца – горящее колесо.
Осенняя стадия общественными кострами не отмечена. Ко времени осеннего равноденствия древний славянин уже получил все, что ему удалось вымолить у богов, и совершал благодарственные моления в честь Рода и рожаниц (8 сентября), «наполняя черпала» и празднуя урожай; костров в осеннюю фазу не возжигали. Это прекрасно отражено на более позднем славянском сосуде‑календаре IV в. н. э. из Лепесовки на Волыни, где косыми крестами отмечены эти солнечные фазы: зимняя, весенняя и летняя – двойным крестом, осенняя (сентябрь) крестом не отмечена [554]. Этот поздний календарь, тщательно изготовленный на большом сосуде для новогодних гаданий и заклинаний, может послужить нам отправной точкой в поисках древнейших прототипов первоначального календаря. Календарь из Лепесовки начертан на отогнутом плоском крае красивой ритуальной чары и представляет собой круг, разделенный на 12 секций, по числу месяцев. На нем, как сказано, отмечены три солнечные фазы. На керамике гальштатского времени и более ранней, бронзового века, многократно встречаются четыре косых креста на разных сторонах сосуда, которые могут быть сочтены символами четырех солнечных фаз. Эта символика уходит в энеолит, где подобное размещение четырех крестов мы хорошо знаем в трипольской росписи. Мне думается, что отдаленным прототипом позднейшего славянского календарного круга с 12 месяцами и четырьмя солнечными фазами мы можем считать интересный сосуд, относящийся к энеолитической культуре колоколовидных кубков. Культура эта в Центральной Европе пришлая (очевидно, с юга); к славянам прямого отношения она не имеет, но так как она широко распространилась по той территории, где спустя несколько веков начало формироваться праславянское единство, то ассимилированных пастухов и торговцев медью, какими считают носителей этой культуры, можно, с известной долей вероятия, числить субстратной группой протославянского массива в его западной части. Сосуд, о котором идет речь, найден в Венгрии. Это миска с четырьмя ножками, напоминающая в целом коровье вымя, что вполне естественно для пастушеского народа [555]. Верхний край толстостенного сосуда срезан горизонтально, и образовавшийся плоский круг расчленен на целый ряд замкнутых отрезков, часть которых заполнена несложными изображениями (косой крест, зигзаг, «частокол» и др.), а часть оставлена пустыми в качестве разделителей. Организуют всю эту систему солнечно‑огневые знаки в виде косых крестов, расположенные в четырех местах круга; если уподобить этот круг циферблату часов, то крестообразные знаки придутся на место 12 часов, 1 часа, 3 часов (два знака), б часов и 9 часов. По своему расположению на венчике сосуда косые кресты вполне соответствовали бы местам четырех солнечных фаз, если бы весь круг изображал 12 месяцев года (см. рис. 87, 88).
Этот энеолитический сосуд очень близок к расшифрованному мною календарю IV в. из Лепесовки на Волыни. Там на широко отогнутом плоском краю ритуального сосуда нанесены 12 секций с обозначением 12 месяцев. Отмечены три солнечные фазы; зимняя фаза перенесена на январь, а летняя, как говорилось, помечена двойным крестом [556]. Направление счета месяцев идет посолонь. Этот роскошно орнаментированный сосуд, предназначенный, как я предположил, для общественных новогодних заклинаний на все 12 месяцев предстоящего года, может послужить хорошей отправной точкой для анализа древнего венгерского сосуда, круговые начертания которого общим своим видом близки к лепесовскому календарю. И там и здесь мы видим отдельные секции и расчленяющие их на группы солнечные кресты годичных фаз солнца. И там и здесь одна из солнечных фаз обозначена не одним, а двумя солнечно‑огненными крестами. Для лепесовской ритуальной чаши, где удалось все 12 секций связать с определенными месяцами, этот двойной крест обозначал летнее солнцестояние, июньский апогей солнца, отмечаемый особенно интенсивными купальскими кострами (см. рис. 89, 90).
Если допустить, что на древнем венгерском сосуде тоже изображены 12 месяцев, а также то, что двойной крест и там и здесь означал месяц июнь, то те два разделительных креста, которые расположены на диаметрально противоположной стороне круга исследуемого венгерского сосуда, мы должны будем признать близкими к зимней солнечной фазе. Здесь сразу необходимо сделать оговорку: на чаше‑календаре IV в. н. э. крестовидный знак зимней солнечной фазы поставлен не в декабре, как следовало бы по астрономическим данным, а в январе, т. е. не по началу, а по концу зимних новогодних святок, завершавшихся 6 января. В «зимней зоне» предполагаемого энеолитического календаря изображены в особых, четко отделенных интервалами секциях два косых креста: один – очень большой, с двойным контуром, а другой – обычный, такой же, как кресты всех остальных фаз. Эти две секции с крестами могут быть обозначением двух зимних месяцев – декабря и января. Годовой заклинательный праздник – святки, длившийся 12 дней, начинался в декабре и заканчивался в январе. Таким образом, весь круг венчика венгерского сосуда оказался расчлененным на две половины крестами двух солнцестояний – зимнего и летнего. И в каждой половине, посередине её, начертано по кресту, которые должны означать два равноденствия – весеннее и осеннее. При расшифровке тех или иных круговых, бесконечных графических систем, в которых подозревается календарное содержание, всегда встают два вопроса: с какого звена следует начинать счет и в каком направлении (по часовой стрелке или против) вести его. В нашем случае точка отсчета указана выделением одного из «зимних» крестов. Приняв направление посолонь, примененное при построении ле‑песовского календаря IV в. н. э., мы получаем расшифровку этих двух зимних крестов: большой крест – декабрь (истинное солнцестояние), а малый крест – январь. Обратное направление счета не дает результатов. Дальнейшее распределение секций по месяцам может быть произведено только при учете того, что рядом с весенней и летней фазами поставлены знаки, как бы отграничивающие пору усиленных молений от масленицы до Купалы. Если мы исключим их из счета секций‑месяцев, то получим полный календарный цикл из 12 секций в следующем виде. 1. Январь. Отмечен знаком косого креста. 2. Февраль. Зигзаг. 3. Март, Крест и дополнительный знак отграничения весны от зимы. 4. Апрель. Неясный вилообразный рисунок. (На лепесовской чаше в секции апреля изображено рало.) 5. Май. Зигзаг. 6. Июнь. Два креста и знак отграничения лета от осени. 7. Июль. Небольшой знак, составленный из двух пересекающихся дуг. 8. Август. Зигзаг. 9. Сентябрь. Крест. 10. Октябрь. Вертикальные черточки. 11. Ноябрь. Нечеткая насечка в двух направлениях. 12. Декабрь. Большой косой крест, обведенный двойным контуром. Пять месяцев в году обозначены ничего не выражающими линиями (февраль, май, август, октябрь, ноябрь); апрель не ясен по рисунку. Всё внимание творца календаря устремлено на время солнечных фаз, как это и должно быть на календаре, отображающем солнечный двенадцатимесячный год. Знак зимней солнечной фазы попал на январь, очевидно, потому, что уже в то отдаленное время существовали длительные зимние праздники в честь возрождающегося, разгорающегося солнца. Перед днем весеннего равноденствия поставлен знак в виде двойных двузубых вил; такой же знак стоит после летнего солнцестояния. Эти два четко сделанных знака отмечают второй квартал года, когда солнце набирает силу, дни становятся все длиннее, ночи – короче; это – период разгорания солнца, его поступательного движения. Особо отмечен месяц июль, что, вероятно, связано с «днем громовержца» 20 июля (позднейший ильин день). Что означает знак из двух дуг – сказать трудно. Осенняя фаза (сентябрь) отмечена скромно одним крестом без дополнительных знаков. Выделенный особо декабрь свидетельствует о том, что конец года, совпадавший с зимней солнечной фазой, уже тогда был временем больших зак‑линательных молений (частично переходивших и на январь), отголоски которых так хорошо известны нам по позднейшим новогодним празднествам. Как видим, люди эпохи колоколовидных кубков, жившие на Среднем Дунае, не только знали о четырех солнечных фазах, но и делили свой год на 12 месяцев, т. е. знали уже то, что русский книжник приписывал египтянам времен зарождения власти царей. Кроме того, при рассмотрении этого календаря явно видно, что тогдашние люди делили год на активную и пассивную части; вилообразные знаки выделяли в особый период март, апрель, май и июнь. Четкий индивидуальный знак был обозначением июля. Активной частью календаря следует считать весну и лето – с марта по июль, пассивной – осень и зиму – с августа по февраль; только новогодние святки оживляют этот период года, мало интересовавший составителей календаря [557]. Энеолитический календарь предугадывал то деление года на две части, которые мы находим у позднейших греков: во‑первых, время присутствия Аполлона‑Солнца в Греции (эпидемия) и летних празднеств в его честь (таргелии и пианепсии) и, во‑вторых, время отбытия Аполлона к северным гиперборейцам (аподемия), приходящееся, естественно, на зимние месяцы. Календарь из Almosfuzitorol был, по всей вероятности, ритуальным, отмечавшим не хозяйственные сезоны сами по себе, а лишь время сакральных действий, пережитки которых сохранились спустя четыре тысячи лет: святки, масленица, Купала, ильин день. Трудно сказать, насколько могли отдаленные предки славян воспользоваться календарной мудростью своих южных и западных соседей‑скотоводов. К сожалению, никаких достоверных данных о календарных расчетах лраславян в нашем распоряжении нет. Одинаковые названия месяцев у разных славянских народов лишь косвенно говорят о древности двенадцатимесячного года, так как у этих названий нет точных хронологических примет и, кроме того, многие названия сместились со своих первоначальных положений после расселения, забросившего часть славян в совершенно иные климатические зоны. У целого ряда народов на протяжении бронзового века и в начале железного появляются сосуды с начертанными на них 12 знаками, которые вполне естественно воспринимать как обозначения 12 месяцев, но далеко не все они поддаются расшифровке. Особенно богат календарными наборами знаков Кавказ. А. А. Мартиросян посвятил специальное исследование петроглифам берегов Севана, в которых он видит календари. «Первобытные жрецы Армении, – пишет Мартиросян, – имели довольно близкое, практически правильное представление о Солнце, Луне, планетах, звездах, о движении небесных тел, о 12 созвездиях зодиака… и создали первые лунно‑солнечные календари‑петроглифы…» [558]. Создание этой системы автор относит ко II тысячелетию до н. э., что близко к дате культуры колоколовидных кубков. Среди грузинской керамики бронзового века есть большие сосуды, очевидно, для общественных праздников; на одном из них начертаны 12 знаков, которые можно попытаться связать с двенадцатимесячным годом. Точка отсчета четко обозначена сердцевидным знаком над общей строкой. Очевидно, это – январь. Шесть месяцев показаны безразличной короткой зигзаговой линией в виде буквы W, а шесть месяцев, чередуясь с зигзагами, показаны знаками креста, креста с загнутыми концами и контурами сосуда таким образом, что месяцы с одинаковым знаком расположены на кругу друг против друга. Расшифровка может иметь несколько вариантов. Возможно, что наиболее вероятным является тот, при котором год начинается со знака, изображающего сосуд (с сердцевидным знаком наверху), и счет идет вправо. Тогда оба месяца равноденствий (март и сентябрь) будут обозначены крестами, а крестом с загнутыми концами отмечены май и ноябрь, как в кельтском календаре, связанном со скотоводством. Летнее солнцестояние при всех вариантах остается неотмеченным. Сосуд, очевидно обозначающий благоденствие, отмечает два месяца: июль – месяц урожая и январь – месяц новогодних заклинаний. Мною опубликована расшифровка календарного фриза на северокавказском сосуде VIII – VII вв. до н. э. [559]. Есть ещё ряд древних сосудов с календарными знаками, ожидающими расшифровки. Вполне вероятно, что время пастушеских передвижений в эпоху шнуровой керамики научило многие племена Центральной и Восточной Европы более точному счету времени и сопоставлению устойчивых астрономических явлений. Можно думать, что к лужицко‑скифскому времени племена праславянского мира приобщились к солнечному двенадцатимесячному календарю, знавшему, кроме того, четкое деление по солнечным фазам. Впрочем, не исключена возможность того, что этими знаниями индоевропейские племена обладали задолго до того, как начали овеществлять их на ритуальной посуде.
* Прикладное искусство праславянских племен лужицко‑скифского времени в какой‑то мере известно нам по археологическим материалам, но мы всегда должны помнить о том, что нам остались недоступны наиболее обильные и богатые разделы народного творчества: вышивки на тканях, деревянная резьба, пышный, но недолговечный реквизит языческих молений и празднеств. Рассматривая археологический материал конца бронзового века и на ранних этапах железного века, мы постоянно будем встречаться с тем обстоятельством, что весь праславянский мир был поделен тогда на две разные области, входившие в зоны разных культур: западная – в довольно однородную обширную зону лужицкой культуры, а восточная – в менее однородную, но тоже обширную зону скифской культуры. Вычленение собственно славянского массива внутри «венедской» лужицкой культуры гальштатского времени производится не столько по четким признакам той самой эпохи, сколько по ареалам предшествующей и последующих культур, более определенно относимых к славянам. Впрочем, славяно‑кельтский рубеж внутри лужицкой культуры устанавливается довольно точно: границей является Одер; западнее жили кельтские племена, а восточнее – славянские [560]. Что касается скифской половины праславянского мира, то она выделяется из общей массы скифоидных археологических культур, во‑первых, по принципу занятия земледелием (собственно скифы были только скотоводами‑кочевниками), во‑вторых, по данным топонимики, а в‑третьих, по результатам соотнесения археологических культур с подробными географическими данными Геродота [561]. Праславянской частью условной Скифии были: лесостепное Правобережье Днепра, берега Ворсклы (район славянской колонизации VIII – VII вв. до н. э.) и верхняя половина бассейна Южного Буга. Севернее границы скифской археологической культуры, воспринятой праславянскими племенами, на очерченной территории жили другие праславянские племена, культура которых почти не была затронута скифским влиянием (милоградская культура геродотовских невров). Среднеднепровских праславян Геродот выделял из общей массы племен, живших в Скифии, то называя их «борисфенитами» (по Борисфену – Днепру), то приводя их самоназвание: «Всем им в совокупности есть имя – сколоты по имени их царя. Скифами же их назвали эллиныъ [562]. Греки, покупавшие у сколотов‑праславян хлеб, не случайно объединили их со скифами под одним общим именем, так как племена Среднего Поднепровья испытали очень сильное влияние скифов, которое сказалось в материальной культуре (главным образом в вооружении), искусстве и даже в языке. Именно к этому времени относится появление в праславянском языке слова «бог», свидетельствующее о влиянии и в религиозной сфере, проявившемся, как уже говорилось, и в погребальном обряде. Само собой разумеется, что земледельческая специфика культов не могла исчезнуть; она сохранилась, главенствовала, но общая сумма религиозных представлений увеличилась за счет включения ряда иранских элементов. Вероятно, в эти века проникли к славянам имена таких иранских божеств, как Хоре – Солнце и Симаргл – священная крылатая собака. Впрочем, эти явные иранизмы ощущались только в славянской верхушечной культуре и дожили лишь до XII в. н. э.; в народный фольклор они не проникли. В Левобережье Днепра соседями славян‑колонистов были родственные скифам гелоны. Огромный город Гелон (Бельское городище на Ворскле) был заселен, по‑видимому, как праславянами, появившимися на берегах Ворсклы за два века до основания города, так и гелонами, занявшими эти полустепные пространства одновременно со скифским вторжением в Причерноморье. Нельзя исключать из состава населения Гелона и местные автохтонные племена (возможно, прабалтийские), жившие здесь до прихода праславян и гелонов. Эту оговорку необходимо сделать, так как приходится использовать интересный материал Бельского городища, не дожидаясь того времени, когда скифологи расчленят его на этнические группы. Две зоны праславянского массива – лужицкая и скифская – не были отгорожены друг от друга, и в археологическом материале отразилось взаимопроникновение их. Лужицкая культура просачивалась в восточном направлении до Днестра, а скифские вещи встречаются по всей западной половине праславянщины между Вислой, Одером и Дунаем, не переходя, впрочем, славяно‑кельтскую границу и не доходя до моря, т. е. точно замыкаясь в пределах праславянского расселения [563]. Это объясняет нам представление античных географов о том, что в Южной Прибалтике «Кельтика» соседит со «Скифией». В данном случае под Скифией подразумевался славянский массив. Очевидно, внутри праславянского мира существовало какое‑то внутреннее общение племен, передвижения, торговые связи, в отдельных случаях могли быть и походы. Вовлечение праславян в две различные культурные области затруднило целостное рассмотрение всего праславянского массива от Одера до Ворсклы в лужицко‑скифское время, но, ведя речь об этапах развития славянского язычества, нельзя ограничиваться той или иной половиной славянщины, так как шел единый процесс, что подтверждается целым рядом примеров. В отдельных случаях, учитывая фрагментарность дошедших до нас материалов, допустимо использовать некоторые находки, характеризующие ту или иную культурную зону в целом как определенную стадию, даже если нельзя утверждать принадлежность их славянам.
* Современником описанных выше зольников в восточной части праславянского мира был Геродот, оставивший очень интересные и важные записи о религии скифских племен. При анализе данных Геродота очень часто забывают о том, что у него были две точки зрения на скифов и на Скифию. Когда он говорил о противостоянии скифов персидскому нашествию, он имел в виду разные племена скифской федерации, объединившиеся против вторгшихся персов. Подразумевалась некая большая Скифия, охватывавшая различные этнически племена (в том числе и сколотов‑праславян). Такому обобщенному взгляду способствовало действительно существовавшее единство скифской воинской всаднической культуры, проявлявшееся в типах вооружения, конского снаряжения и в украшении оружия звериной орнаментикой. Когда Геродот определил такую Скифию как огромный квадрат площадью около 500 000 кв. км, то он не совершил ошибки, так как археологические культуры скифского облика (с отдельными местными отличиями) действительно покрывают такое пространство в степях, лесостепи и отчасти в лесной зоне Восточной Европы. Но вместе с тем Геродот видел различие внутри Скифии и в отдельных случаях оговаривал его. Так, он четко противопоставил два ежегодных праздника в Скифии. 1. Скифы больше всего чтут бога войны Арея и приносят ему в жертву людей, коней и быков. На большом холме из хвороста водружался «древний железный меч» [564]. 2. Сколоты [которых греки тоже называли скифами ] ежегодно отмечают праздник в честь золотого плуга, ярма, топора и чаши, упавших с неба около тысячи лет тому назад [565](см. рис. 91).
Контраст выступает резко: в одном случае – набор разных священных предметов, во главе перечня которых – снаряжение для парной упряжки пашущих волов (ярмо и плуг), а в другом – единственный символ воинов – меч. Когда степные скифы приносят клятву, то они клянутся не золотым аграрным набором, а мечом, стрелами, топором и копьем, т. е. своим степным оружием (Геродот. История, IV – 70). Об этих двух праздниках Геродот говорит в разных местах, и там, где он дает общий очерк скифской религии, он не вспоминает о почитании золотого плуга, что совершенно естественно, так как этот земледельческий праздник к собственно скифам‑кочевникам не имеет отношения. Одиннадцать раз Геродот говорит о том, что скифы – скотоводы‑кочевники, коневоды, что они не занимаются хлебопашеством, у них нет ни полей, ни оседлых поселений [566]. В строгом соответствии с этим находится и его описание религиозных обычаев скифов: убийство 50 всадников на годичных поминках по царю, принесение в жертву коней, варка жертвенного мяса в походных котлах на костях и сале убитого животного из‑за безлесности степи, сожжение ошибившихся знахарей в кибитке, запряженной быками. Геродот особо оговаривает, что свиней в жертву скифы не приносят, так как они вообще «не имеют обыкновения содержать свиней в своей стране» (Геродот. История, IV – 63). Это резко расходится с верованиями земледельческих племен, у которых свинья является одним из главных жертвенных животных, а свинина, ветчина – главным ритуальным кушаньем вплоть до XIX в. Добавим, что царские скифы (и только они) почитали покровителя коней Фагимасада‑Посейдона. Из приведенного перечня видно, что очерк скифской религии у Геродота относится исключительно к кочевнической южной половине обширного скифского пространства. К этим же, собственно скифским, племенам степного юга мы должны отнести и следующую геродотовскую фразу: «У скифов не в обычае воздвигать кумиры, алтари и храмы богов, кроме Арея» (Геродот. История, IV – 59). Археология показывает, что действительно алтари и жертвенники геродотовского времени начинают встречаться только там, где кончается скифская степь, где начинается земледельческая зона, где есть «города» (отсутствующие у скифов), – у сколотов‑праславян Правобережья Днепра и Ворсклы и у соседних земледельцев гелонов Посулья и Северского Донца. У борисфенитов Правобережья Днепра («скифов»‑пахарей, сколотов) известен ряд своеобразных глиняных жертвенников, обнаруженных на больших городищах – Мотронинском, Пастерском, Жаботинском, Трахтемировском. Первые два представляют собой глиняные столбы диаметром около метра. Верхняя часть покрыта семью рельефными концентрическими кругами; четыре круга ближе к центру, а три круга ближе к краю жертвенника; в центре – мискообразное углубление. Около жертвенников найдены обугленные колосья пшеницы и кости животных. Связь с аграрной магией выступает явно. Интересно сакральное число 7, свидетельствующее об уранических представлениях, о 7 небесных кругах [567]. Более сложными представляются жертвенники двух других городищ. На Трахтемировском городище жертвенник находился в небольшом помещении длиной 6 м и представлял собой круг в 150 см в диаметре, прочерченный прямо на глиняной промазке пола. С одной стороны круг был украшен спиралями. Жертвенник был прокопчен; на нем находились глиняная миска и греческий расписной килик родосской работы. Рядом находился сосуд в виде птицы; такие птицевидные сосуды широко распространены в это время и у западных праславян. В Жаботине жертвенник VI в. до н. э. тоже находился внутри здания 9 X 9 м, диаметр его тоже около полутора метров. Середина жертвенника, или сакрального круга, покрыта концентрическими кругами, затем следует кольцо, заполненное упрощенным меандром, а у самого внешнего края идет крупный бегуще‑спиральный орнамент, близкий к трипольскому. Возможно, что здесь он тоже выражал идею непрерывного бега времени путем серии восходов‑заходов [568](см. рис. 92).
Все эти жертвенники являлись принадлежностью культа малых форм; в помещения, где они находились, могли вместиться не более 40 – 60 человек. Следовательно, они служили всего лишь нескольким семействам одного небольшого участка «города», может быть, соседям, родичам или, говоря средневековым языком, «уличанам». Могло быть и другое: в помещении, где символические круги вырезаны прямо в полу жилища, мог жить какой‑нибудь волхв, жрец, производивший часть своих священнических действий дома, где он мог гадать, давать советы и т.п. Слишком уж непохожи эти «домашние» алтари на общественные сооружения. Впрочем, быть может, будущие раскопки точнее установят, были ли стены у этих сооружений. Если же были только обожженный пол и крыша на столбах, то сооружение могло служить и более широкому кругу сограждан. Большой интерес представляют находки на самом дальнем восточном краю праславянского мира, где славяне в VIII – VII вв. до н. э. вклинились в будино‑гелонскую среду, – на Ворскле, в упоминавшемся уже не раз Бельском городище. Приведу слова Б. А. Шрамко, производившего там раскопки: «В 1972 г. на Восточном укреплении Бельского городища удалось обнаружить остатки святилища VI – V вв. до н. э., в котором свершались обряды, связанные с культом растительности и плодородия. В большом раскопе XXIII (площадь 1891 кв. м) обнаружена довольно чистая площадь без обычной массы бытовых и хозяйственных остатков и сооружений. В юго‑восточной части находилось святилище, в котором на протяжении 70 м было 7 жертвенников, из которых 6 расположены в основном по линии север – юг, а 7‑й – к востоку от неё. Рядом имелось три больших круглых ямы. Вылепленные из глины на земляном возвышении жертвенники имели форму круга диаметром 40 – 50 см. Положенный на землю слой глины толщиной 3 – 3,5 см был тщательно заглажен, обожжен и побелен. Высота жертвенников 30 – 40 см. Вокруг найдено совершенно небывалое количество сделанных из глины культовых предметов: зооморфные и антропоморфные статуэтки (в целом виде и в обломках), культовые лепешки, сосуды, светильники, глиняные модели частей тела животных для гадания. Среди статуэток имеются подлинные шедевры культовой глиняной: пластики скифской эпохи» [569]. Эти сооружения под открытым небом, на расстоянии около 10 м друг от друга, могли быть памятниками общественного культа. Глиняная культовая пластика представляет большой интерес. Здесь есть сидящие женские фигуры, изображающие беременных; есть фигурки медведей, быков, рыси, но особый интерес представляет изображение лося, приносимого в жертву: вылеплена передняя часть туши с головой, частью хребта и ребрами (в том месте, где должно находиться сердце). Как бы отвечая Геродоту на его заметку о неприятии настоящими скифами: свиных жертв, жители Гелона приносили в жертву свиней («кости свиньи: не только обычны, но даже преобладают»), доказывая тем свою непричастность к скифам‑кочевникам. В жертву приносили также быков, овец, коз, коней и собак [570]. Около Гелона, в одном из курганов, было найдено погребение «жрицы, связанной с земледельческим культом плодородия…». «Около могилы на уровне погребенной почвы оказалось огромное кострище, в золе которого найдены остатки сожженной соломы и зерен пщеницы, ячменя, ржи, овса, бобовых, а также культовые модели зерен из глины»[571]. В связи с аграрной магией немалый интерес представляют не только глиняные модели зерен, но и глиняные крестообразные рогульки [572], находящие соответствие, во‑первых, в тех «рогатых лепешках», которые греки приносили в жертву Аполлону, а во‑вторых, в многочисленных восточнославянских этнографических примерах. Весной, задолго до сева яровых, у русских, украинцев и белорусов пекли печенье в форме креста. Судя по позднейшему приурочению к средокрестной неделе великого поста, первоначально, в дохристианские времена, выпечка крестов производилась в дни весеннего равноденствия, т. е. на языческую масленицу; в пользу этого говорит и равнозначность крестов из теста с благовещенской просфорой (25 марта). В кресты запекали зерна, монеты. Испеченные кресты крошили в лукошко с посевным зерном, по запеченной монете определяли, кто первым должен начинать сев; иногда кресты целиком клали в лукошко. Кресты съедали в день выпечки, часть оставляли на день сева, чтобы съесть их в поле, а часть давали скоту, иногда ими кормили коней и скотину в юрьев день при первом выгоне [573]. Магический характер аполлоновых рогатых лепешек не подлежит сомнению (см. рис. 93). Знак косого креста, похожий на глиняные рогатые лепешки, встречается на глиняных чарах с поддоном, возможно служивших для чародейства [574].
В прямой связи с культом плодородия стоит орнаментика глиняных ковшей, к которым очень хорошо подошел бы средневековый термин «черпала», упоминаемый в связи с языческими аграрными праздниками. Ковш – вообще один из наиболее устойчивых видов ритуальной посуды. Деревянные ковши в виде лебедя известны ещё в уральском святилище бронзового века (Горбуновский торфяник), а доживают они в деревенском быту, и именно как ритуальные, вплоть до XIX в., когда их хранили даже в часовнях и пили из них по «канунам». Скифские ковши не несут никаких птичьих черт, но на них есть очень интересный орнамент заклинательного характера. Возьмем в качестве примера ковш из Макеевки в бассейне Тясмина [575]. Широкий мискообразный ковш орнаментирован снаружи, в донной части, большим «мальтийским» крестом и зигзагами. Четырехсторонний орнамент, очевидно, связан с понятием четырех сторон света, с повсюдностью, повсеместностью, «на все четыре стороны». На высоко поднятой ручке ковша изображен знак, который я считаю разновидностью знака плодородия, названного А. К. Амброзом «ромбом с крючками». Он представляет собой ромб, к углам которого приставлены (вершиной к углу) небольшие треугольники. Этот знак тоже похож на мальтийский крест, но с иной пропорцией частей: здесь сердцевина сильно увеличена, а лопасти креста уменьшены, но идея повсеместности, распространения благодати «семо и овамо», вероятно, тоже присутствует. Такой же крест и тоже на ручке ковша известен по раскопкам Бельского городища [576]. Ромбическо‑крестовидный знак тяготеет, как мне кажется, к тем областям, где наряду с земледелием очень важную роль играет и скотоводство. Он широко известен в этнографии у венгров, у гуцулов, встречаясь (как и колесо с шестью спицами) на сундуках и скрынях для хранения домашних ценностей. В скифской среде этот знак известен на пограничье со степью, на самом южном краю правобережных скифов‑пахарей и на Ворскле, отделявшей земледельцев от номадов (см. рис. 94).
Значение нашего знака как символа плодовитости скота очень рельефно выступает в закавказском археологическом материале [577](см. рис. 95).
* В связи с археологией скифской половины праславянского мира необходимо коснуться, хотя бы вскользь, такой широкой и многогранной проблемы, как звериный стиль скифского искусства. После работы Стжиговского и открытий С. В. Руденко и М. П. Грязнова проблема эта стала общеевразийской и охватила многие десятки или сотни древних племен. Усилия значительного отряда исследователей проясняют многие отдельные стороны проблемы, но гигантский территориальный размах и обилие материала все ещё затрудняют её окончательное решение на уровне историко‑культурного синтеза, опирающегося на четкую и убедительную хронологию, с одной стороны, и на равномерное рассмотрение общего и локального – с другой. В зверином стиле скифских и скифоидных племен содержится и информация об охотничьем прошлом скотоводческих племен, и данные о позднем этапе тотемизма, и яркий рассказ о многолетнем рейде скифской конницы по землям древних государств Ближнего Востока, известном нам по письменным источникам, а также сведения о походах в Центральную Европу за Карпатский хребет, о которых нет ни одного исторического свидетельства. Нечего и говорить о том, как много может дать звериный стиль для понимания идеологии и религиозных представлений самих скифов и тех соседних племен, которые восприняли черты всаднической скифской культуры, соединив их с элементами своей, унаследованной культуры. В качестве примера можно привести интереснейший комплекс из кургана № 2 в Жаботине на Тясмине. Здесь найдены две резные костяные бляшки – каждая с изображением лосихи и маленького лосенка. Дата – VII – VI вв. до н. э. Это уводит нас к далеким охотничьим мифам о двух рожаницах, рождающих «оленьцов малых» [578]. Не меньший интерес представляют костяные пластины (накладки лука?), украшенные гравированными изображениями лосей и хищных птиц. Подробнее я коснусь этой серии изображений (борьбы лосей с грифами) в главе о мифологии. Помимо некоторой близости к мифологическим сюжетам, эти бляшки и пластины интересны выбором животного: лось водится только в лесах, его совершенно нет в степи. Всё лосиное тянет к северу, к лесной зоне и не может быть собственно скифским. Костяные бляшки – явное искусство скифов‑пахарей [579]. Представляет интерес и жертвенный нож из Киева, навершие которого увенчивает изображение медвежьей шкуры, а перекрестия образуют головы хищных птиц [580]. Дальнейшее изучение может дать много важного для восполнения общей картины сказочных, мифологических образов того времени. Применительно к нашей праславянской теме представляет значительный интерес небольшая статья А. И. Шкурко, посвященная локальным различиям звериного стиля в лесостепной зоне Восточной Европы [581]. Автор сопоставляет три района: Правобережье Днепра, Левобережье и Средний Дон. Нас должен интересовать район Правобережья Днепра, входивший в зону сплошного расселения праславян I тысячелетия до н. э. Оказалось, что этот район существеннр отличается от соседнего Левобережья: здесь ощущается влияние того скифского искусства (изизвестного по кубанским находкам VII в.), которое несет на себе свежие следы азиатских походов. Очевидно, контакты праславян со скифами начались сразу по возвращении тех из походов. Для VI – V вв. до н. э. А. И. Шкурко устанавливает в Правобережье расцвет местного искусства и существование таких сюжетов, как лось (лучше переданный, чем у соседей) и медведь, что, очевидно, объясняется близостью к лесной зоне; отмечается обилие изображений хищных птиц, в частности орла. Начиная с IV в. до н. э. ощущается появление греческих сюжетов, не связанных с местной фауной (львы, пантеры и т. п.). Не меньший интерес представляет и характеристика Левобережного района. Он отличается обилием наверший и скипетров, другим подбором сюжетов (конь, бык), отсутствием образа оленя, стремлением создать свой образ фантастического животного из реальных элементов, а в целом – своеобразием и замкнутостью. Попробуем дать исторический комментарий к важным наблюдениям А. И. Шкурко. Мне очень приятно отметить, что его выводы подкрепляют мою схему размещения племен в Приднепровье: правый берег Днепра принадлежал земледельцам праславянам, воспринявшим скифскую культуру, а левый был заселен смешанным населением, в состав которого входили праславяне (Ворскла и часть населения Гелона на Ворскле), остатки местных будинов и пришельцы‑гелоны, родственные скифам, но не тождественные им (Сула, Северский Донец). Последнее и подтверждается отсутствием у гелонов образа оленя, столь типичного и обязательного для степных скифов, ставшего как бы гербом кочевых скифов, а также своеобразием и замкнутостью искусства этого района, отмеченными исследователями. Благодаря этим наблюдениям гелоны приобретают археологическую конкретность, и мы можем более уверенно проводить славяно‑иранскую границу. Исторически вполне закономерно и то, что земледельческий район Правобережья рано оказался под влиянием греческого искусства: борисфениты‑славяне не только торговали с Ольвией, но и жили в самом городе (Геродот. История, IV – 78) и рядом с ним, «напротив святилища Деметры» (Геродот. История, IV – 53), т. е. южнее города, ближе к пути из устья Днепра. Торговля днепровских пахарей с Ольвией, «Торжищем борисфенитов», велась, по всей вероятности, двумя путями – по Синюхе и Южному Бугу, а также по Днепру; оба пути сходились у Ольвии. Днепр был судоходец в те времена при движении вверх, против течения, только до порогов, но Геродот получил очень точные сведения об общей протяженности всей реки – 40 дней плавания, следовательно, его информаторы‑борисфениты плавали по всему Днепру и знали расстояния. Земля самих борисфенитов занимала на Днепре пространство в 10‑11 дней плавания (около 400 км). Границей борисфенитов Геродот считал реку Пантикапу, в которой естественнее всего видеть Ворсклу [582]. Между устьем Ворсклы и областью Герр, в которой были знаменитые курганы царских скифов, находилось к северу от порогов полупустынное пространство. Крайней северной точкой царских скифов выше днепровских порогов следует считать, очевидно, район Александропольского кургана, невдалеке от которого найдено на Лысой горе знаменитое на‑вершие с изображением птиц, волков и бога (Гойтосира‑Аполлона?). Подобное навершие (но более упрощенной формы) обнаружено в самом Александропольском кургане. Познакомившись с отрывочными археологическими данными о праславянском язычестве восточной, «скифской» половины славянства, обратим внимание на данные (к сожалению, тоже отрывочные) лужицкой половины. В керамике лужицкой культуры долгое время сохраняется архаичный энеолитический мотив женских грудей, восходящий к ещё более ранним представлениям о двух матерях‑рожаницах, чьи сосцы источают небесную влагу. Именно о двух божественных кормилицах свидетельствуют обычные для керамических форм две пары грудей, четко и рельефно обозначенных на тулове сосуда. Мы уже знакомы с выражением этой идеи по более ранней керамике тшинецкой культуры. Такая посуда обычна для ранней фазы лужицкой культуры, но доживает она до VI в. до н. э. [583], что определенно говорит о живучести древних представлений, но вместе с тем отмечает и время их отмирания. В местах, удаленных от древних земледельческих центров, как, например, в Поморье, изображение грудей становится орнаментальным, утрачивает первоначальный смысл: вместо четырех сосков гончар обозначает семь, что явно говорит о забвении архаичного содержания [584]. Интереснее другое направление эволюции: вместо четырех грудей на более поздних сосудах появляются изображения только двух. Это означает, что древняя пара богинь уже начала заменяться одной богиней. И эту одну богиню мы видим в археологическом материале в двух обликах, взаимно дополняющих друг друга: в виде глиняной фигурки и в виде рисунка на браслете. Глиняная фигурка из Дещно представляет собой примитивно сделанную полую внутри женскую статуэтку с большой чарой в руке [585]. Особенность устройства этой статуэтки заключается в том, что если в сосуд, находящийся в её руках, налить воды, то вода окажется на земле. В русских средневековых древностях нам известны миниатюрные амулеты‑ковшички без дна, из которых, как выяснилось по этнографическим примерам, «поливали» матушку‑землю, т. е. лили с заговором воду в ковшичек, а вода, проходя через бездонный ковш, лилась на землю. Такими же бездонными были, как известно, и трипольские биноклевидные «сосуды», служившие, как я думаю, той же цели – ритуальному напоению земли. Трудно сказать, изображает ли эта фигурка богиню земли или жрицу этой богини, так как в самом ритуале жрецы и жрицы в какой‑то мере замещали божество. Большой интерес представляет композиция, изображенная на широком бронзовом браслете VII в. до н. э. из клада в Радолинеке близ Познани, т. е. на праславянской земле [586]. На широком щитке браслета посередине, от узкого конца браслета к другому концу, изображены шесть солнечных дисков, каждый с маленькими лучиками. У первого слева и третьего диска имеются изогнутые лебединые шеи, поднятые вверх. У четвертого и шестого дисков тоже есть лебединые шеи, но они опущены вниз. Диски делят щиток браслета на две половины; в обеих половинах симметрично расположена дважды повторенная главная часть композиции. На слегка изогнутой полосе, имеющей сходство с ладьей (по краям – лебединые шеи), изображена женская фигура в широкой юбке, с руками, простертыми вверх. Над женщиной – солнечный диск, аналогичный шести предыдущим. По сторонам женской фигуры ещё два солнечных диска с лебедиными шеями в виде латинского s; шеи подняты, на голове черточками изображены присущие лебедям бугры на клюве. Судя по форме шеи, здесь изображен лебедь‑шипун (Cygnus olor), распространенный в Северной Европе. У узких концов браслета снова выгравированы женские фигуры с поднятыми руками. Два других, более узких, браслета из этого клада тоже украшены солнце‑лебедями, но женской фигуры на них нет (см. рис. 96).
В том же самом стиле сделаны очковые фибулы с широким щитком, происходящие из Поморского района лужицкой культуры [587]и относящиеся к этому же времени, к VIII – VII вв. В одном случае мы наблюдаем полное стилистическое единство с радолинским кладом – вплоть до лебединых шей у солнечных дисков. Кроме того, в радолинском кладе есть очковая фибула с укрепленными между двумя дисками тремя птичками (утками?). Диски этих широко распространенных фибул тоже должны рассматриваться как солярные символы, а птицы так же дополняют солнечную символику, как и на главном браслете. Фибула в целом может быть понята как стилизованное изображение солнечной колесницы, влекомой водоплавающими птицами. Мотив дисков‑колес и птиц роднит радолинский клад со многими другими находками в западной половине праславянского мира. Очень похожая, но более богатая фибула известна из Кольска (близ Зеленой Гуры) [588]. Здесь тоже два диска, образованные спиральной проволокой, и три птички, но у каждой птицы в клюве – три кольца (как над женской фигурой радолинского клада три солнца с птицами). Перед нами раскрывается очень интересная и яркая картина праславянского солнечного культа. Образ женщины, воздевающей руки к солнцу или к небу, вообще дожил до XIX в. н. э., отразившись в севернорусской вышивке. Три солнца выражают идею движения светила: восходящее солнце, солнце в полдень и заходящее солнце – утро, полдень и вечер русских сказок. Под той землей, на которой стоит женщина, очевидно, в ночной, «подземной», части солнечного пути, солнце, оснащенное лебедиными шеями, тоже движется, что показано многократным повторением солнечных дисков. Тройное солнце, сопряженное с птицами, доживает до средневековья. Можно привести в качестве примера арки напрестольного киота из Вщижа работы мастера Константина середины XII в. [589]Арка символизирует небесный свод; снизу к краям неба подступают морды двух ящеров; уровень земного горизонта, где «небо с землей сходится», обозначен двумя симарглами, священными языческими псами, покровителями земной растительности. Образ неба дан не только полукружием арки, опирающейся своими концами на землю, но и тремя солнечными кругами, в которые вписаны птицы. Восходящее и заходящее солнце помещено у самых симарглов; птицы внутри кругов не летают, а мирно клюют растение. Полуденное солнце помещено в самой вершине арки, и птица там показана в полете, с распахнутыми во всю ширь крыльями. Задача мастера Константина была более сложной, чем мастеров гальштатской эпохи. Он стремился показать всю картину мира с его тремя ярусами: миром ящеров, землей, поросшей растениями, и небом с движущимся по нему солнцем. Лужицкие мастера отражали одну идею – движение солнца; птиц они использовали как показатель самого движения и как причину его. Сочетание солнечных дисков с лебедями, так интересно представленное на вещах радолинского клада VII в. до н. э., не должно нас удивлять, так как в это самое время сочетание солнечной темы с темой лебедей встречается в искусстве и мифологии достаточно широко. Этрусскому искусству хорошо известно символическое изображение солнечного колеса, влекомого лебедями [590]. В античной Греции сформировался целый цикл мифов о солнечном Аполлоне, неразрывно связанном с лебедями. Лебеди семь раз облетали Делос во время рождения там Аполлона. Аполлон‑Солнце летал по небу в золотой колеснице, запряженной лебедями; в такой колеснице бог увозит Кирену. Далеко не все праславянские, прагерманские, прибалтийские и вообще северные религиозные представления можно прямо соотносить с греческой мифологией; многое требует поправок на существенное различие темпа и уровня развития. Но именно по отношению к Аполлону и его лебедям мы располагаем многочисленными данными о связи этого мотива с севером. Лебедь – перелетная птица, улетающая на лето далеко на север, а на зиму возвращающаяся в широты Средиземноморья и Каспия. В «Эклогах» Гимерия приводится в пересказе гимн Аполлону: «Когда родился Аполлон, Зевс, украсивши его золотой миртой и мирой, дал ему, кроме этого, возможность следовать на колеснице, которую влекли лебеди, и послал его в Дельфы… Аполлон же, взойдя на колесницу, пустил лебедей лететь к гиперборейцам»… Вернулся Аполлон с севера опять на лебедях, тогда, когда «было лето, даже самая середина лета…» [591]. Жрецами Аполлона считались сыновья Борея, северо‑восточного ветра; во время жертвоприношений солнечному богу с северных Рипейских гор слетала туча лебедей, воспевавших Аполлона [592]. С Аполлоном, его матерью Лето и сестрой Артемидой нам ещё придется встретиться в одном из следующих разделов, где будет идти речь о гиперборейцах, а также и об их местоположении. Пока удовлетворимся тем, что греческие мифы очень настойчиво связывали Аполлона с «самыми северными» (гиперборейцами) людьми тогдашнего греческого географического кругозора. В античных сведениях говорится не только о том, что Аполлон‑Солнце на зиму покидает ойкумену и отправляется к «самым северным» («аподемия Аполлона»). Это можно было бы толковать как мифологическое объяснение смены летнего тепла зимними холодами, но в античном мире долго бытовали легенды о принесении даров в храм Аполлона на Делосе из отдаленнейших земель гиперборейцев. Легенды, рассказанные Геродотом и повторенные Плинием и другими, вероятно, отражают какие‑то реальные связи североевропейских племен с древними святилищами Греции (Дельфийское святилище будто бы основано гиперборейцами) и острова Делоса. В силу этого солнечных лебедей праславянского мира мы должны рассматривать не как механическое заимствование античного мифа, а как соучастие северных племен в каком‑то общем (может быть, индоевропейском) мифотворчестве, связанном с солнцем и солнечным божеством. В прикладном искусстве разных веков, как об этом уже приходилось говорить, идея суточного движения солнца выражалась обычно посредством двух видов существ: днем светило везут по небу кони (кони Гелиоса, миф о Фаэтоне и др.), а ночью – по подземному океану птицы: утки, лебеди, гуси. Возможно, что образ лебедей, влекущих светило и по океану и по небу, первоначальнее коней – ведь лебедь может и плыть и лететь; летящие лебеди более естественный образ, чем скачущие по небу кони. В восточной половине праславянского мира, как мы уже видели, культ водоплавающих птиц был сопряжен с ритуальными кострами‑зольниками, связь которых с солнечным культом едва ли подлежит сомнению. В лужицкой половине, помимо радолинского клада и схожих с ним находок, встречены ритуальные предметы, ещё более близкие к мифу о солнечной колеснице, влекомой водоплавающими птицами. Таковы бронзовые и глиняные колясочки, близкие к очковым фибулам с птицами. В Каловице близ Тшебницы (Польша) найдена бронзовая коляска с тремя колесами, четырьмя водоплавающими птичками и двумя фигурками быков. Аналогичная глиняная коляска с тремя птичками была найдена в кургане в Бжезняке в Поморье [593]. Три колеса, перекрещенные спицами, явно воспроизводят солнечный символ в его наиболее простой форме, а троичность их прочно вписывается в устойчивое представление об утре, полдне и вечере (см. рис. 97).
Интересной параллелью солнечным коляскам северо‑западной части праславянщины являются две вотивные колесницы из Дуплян (Банат близ Белграда), найденные за пределами славянских земель того времени, но по своему содержанию весьма к ним близкие. Колесницы в виде плоского лотка показаны условно. Сзади два колеса, спереди – одно. На каждой колеснице стоит человеческая фигура и изображены рельефно три птицы (утки?). Д. Бошкович дал очень интересную реконструкцию одной из повозок, установив, что над одной (мужской по признаку пола, но не по одежде) фигурой находился полусферический символ солнца, украшенный 12 лучами. Птиц Бошкович называет лебедями или утками [594]. Одежда мужской фигуры орнаментирована концентрическими кругами, одежда второй (женской?), помимо таких солнечных кругов, украшена на груди и у чресел тремя крестовидными знаками. Драга Гарашанина связывает эти находки с мифом об Аполлоне и лебедях [595]. В этом вполне можно согласиться с исследовательницей, добавив, что все «трёхколки» от Дуная до Балтийского моря также входят в разряд вещей, свидетельствующих о знакомстве с мифом о полете Аполлона к гиперборейцам на лебедях [596]. Возможно, этот участок Дуная, откуда открывался прямой путь к Олимпу и к Делосу, был как‑то причастен к процессиям дароносцев Аполлона (подробнее см. ниже). Большое количество глиняных колесиков размером с пряслице и более крупных найдено на священной горе Собутке около древней цистерны. См.: Cehak‑Hotubowiczowa H. Badania…, s. 71. В превосходном источниковедческом исследовании А. Ф. Лосева об исторических этапах античной мифологии значительная часть посвящена истории культа Аполлона. Он убедительно развенчивает распространенное представление об этом боге, ограниченное образом Аполлона Бельведерского, изнеженного и красивого мусагета, покровителя муз. Устанавливается глубокая архаичность божества, являвшегося сочетанием добра и зла, божества, чьим атрибутом был лук со стрелами, а спутниками – волк, собака, ястреб, иногда лев. Культ возник, вероятно, ещё на охотничьем уровне развития общества, перешел к скотоводам (Аполлон‑пастух) и особенно расцвел в земледельческую эпоху. К материалам А. Ф. Лосева, приводящего сведения о четвероруком Аполлоне, можно добавить данные трипольской росписи, где, как мы помним, есть изображение четверорукого великана, связанного с Солнцем (Пуруша‑Митра? Аполлон?). Полное отождествление Аполлона с солнцем Лосев считает более поздним (с V в. до н. э.), но сопряженность бога с солнцем и солнечным годом, вероятно, возникла ранее. Аполлон, по представлениям Цицерона, был сыном Гефеста, а по более обобщенному мнению философа Прокла, – сыном демиурга [597]. Совершенно так же, как русский летописный Дажьбог‑Солнце был сыном демиурга Сварога, сопоставленного с Гефестом. Аполлон предстает перед нами как владыка, дарующий свет и тепло, как хлебодар (ситалк), воссоединяющий (для возрождения) части растерзанного Диониса. Античные писатели очертили ареал храмового культа Аполлона, охватывающий Грецию, Италию, Малую Азию, Египет, Северную Африку и даже Вавилон. Северная часть Европы не вошла в этот обзор храмов, но многие черты в ритуале более северных племен родственны культу Аполлона. У праславян мы знаем зольники, а у Аполлона иногда алтарь делался из золы (сподий); в зольниках встречаем крестообразные глиняные рогульки, а Аполлону приносили в дар «рогатые лепешки» [598]. В зольниках мы знаем культ собаки, а собака и волк во многих мифах близки к Аполлону. Очевидно, какое‑то близкое к Аполлону божество, может быть под иными именами, почиталось другими европейскими народами. В связи с культом Аполлона‑Солнца на север от греко‑римского мира мне представляется необходимым обратить внимание на замечательную «солнечную колесницу», происходящую, вероятно, из жреческой могилы VI в. до н. э. Речь идет о бронзовой повозке из Штреттвега (Грац, Австрия) [599]. Район Граца (римский Норикум) не входил тогда в зону праславянского расселения. По одним предположениям здесь обитали венеты (общие предки славян и других племен) [600]. По другим здесь были геродотовские сигинны [601]– племя фракийского происхождения. С некоторой поправкой на уровень развития эту интереснейшую культовую вещь можно использовать для нашей темы как сравнительный материал. Рассмотрим подробнее штреттвегскую повозку (см. рис. 98).
Сложная, многофигурная скульптурная композиция смонтирована на решетчатой платформе длиной 35 см. Платформа снабжена по углам четырьмя колесами. В центре платформы‑повозки находится очень крупная (23 см) женская фигура с поднятыми вверх руками; она более чем в два раза превышает фигуры людей и животных, окружающих её, что сразу расставляет акценты: срединное место занимает богиня, высоко возвышающаяся над своим окружением. Богиня обнажена, на ней надет только широкий узорчатый пояс. Согнутыми в локтях руками богиня поддерживает какую‑то огромную чашу в виде шарового сегмента. Чаша дополнительно укреплена двумя подпорами в виде буквы X. Окружение богини составляют две одинаковые группы: одна расположена на платформе перед богиней, спинами к ней, как бы сопутствуя или, точнее, предшествуя ей. Вторая, тождественная группа тоже расположена спинами к богине, но позади неё и тем самым идет от богини в противоположную сторону. Благодаря этому вся композиция на платформе приобретает почти полную симметрию и смотрится со всех сторон. Разберем состав скульптурной группы. На переднем плане, у самой передней оси повозки, украшенной двумя конскими головами, поставлена фигура оленя с большими рогами; по сторонам оленя – двое голых юношей, держащихся за рога оленя. У левого и правого края повозки сидят на конях два воина‑всадника со щитами, в конических шлемах. Всадники держат в руках копья, замахиваясь, чтобы метнуть их или ударить ими. В центре группы, на пространстве между богиней и оленем и между всадниками, поставлены две взаимосвязанные фигуры: одна из них (женская?) – ближе к оленю, другая же – несколько позади неё, у ног богини – мужчина, замахивающийся топором‑кельтом. При рассмотрении композиции в целом обращает на себя внимание, что олень непропорционально мал по сравнению с человеческими и конскими фигурами; кроме того, ноги его показаны слишком обобщенно, в виде двух круглых тумб: одна тумба вместо обеих передних ног и одна вместо задних. Следует сказать, что кони в противоположность оленю изваяны очень тщательно: у них хорошо моделированы копыта, бабки, коленные суставы, хвосты, передана пластичность позы резко осаженного всадником животного. Нарочитая обобщенность ног оленя наводит на мысль, что скульптор вполне сознательно изобразил здесь не живого оленя, а статую оленя, уменьшенную вдвое по сравнению с людьми и конями. Вторая, задняя группа полностью повторяет все детали и порядок расположения первой. Разбор композиции начнем с главной женской фигуры. Судя по её росту и срединному положению, она – богиня, но не повелительница мира, так как её поза свидетельствует об обращении к высшему небесному божеству. Этим высшим божеством, по всей вероятности, является солнце или бог солнца, округлый символ которого богиня вздымает на своих руках. На чаше, которую держит богиня, могло находиться изображение солнца или мог быть огонь, если чаша была использована как светильник, что более вероятно. Сцены, происходящие у ног богини, можно, вероятно, истолковать только как человеческие жертвоприношения: мужчина топором убивает женщину (?), а каждый всадник закалывает копьем юношу, стоящего впереди него у изображения священного оленя. В этом особенно убеждает поза коней, резко остановленных всадниками и полуприсевших на задние ноги, а также позы самих всадников, наклонившихся вперед для нанесения удара. Попытаемся раскрыть смысл этой интереснейшей скульптуры. У венетских племен известна с VI в. до н. э. богиня Ректия, сближаемая с греческой Артемидой; она покровительствовала стадам и рожающим женщинам. В жертву Ректии приносили оленей и людей. В. Гензель считает возможным сопоставлять образ Ректии с богиней из Штреттвега [602]. Однако он ничего не говорит о жертвоприношениях, изображенных в штреттвегской композиции. Мне кажется, что смысл композиции шире, чем только изображение Ректии‑Артемиды, хотя мысль о сближении богини на бронзовой повозке с артемидоподобным божеством представляется плодотворной. Богиня возвышена над людьми, но одновременно с этим она выражает подчиненность кому‑то высшему: она несет сферическую чашу и вместе с тем как бы приветствует поднятыми руками кого‑то. И в любом случае – помещался ли на чаше круглый символ солнца (хлеб‑колобок, круглый сыр) или там горел огонь (не менее убедительный символ солнца) – фигура богини должна рассматриваться как вторичная, как встречающая или приветствующая более высокое божество. Если таковым признать Аполлона‑Солнце, то многое разъяснится и в тех сценах, которые происходят у ног богини. Начнем с того, что нам хорошо известны человеческие жертвоприношения Аполлону. Они производились в месяце таргелионе 6 числа, что примерно соответствует первым числам июня (по старому стилю), когда у славян праздновался ярилин день [603]. В Афинах, Фивах, Милете, Микенах в этот день таргелиона Аполлону приносили первые плоды. Само название таргелиона производят от слова «thargelos» – «свежеиспеченный хлеб из первого помола» [604]. Кроме того, «в этот день брали двух преступников (иногда мужчину и женщину), вешали им на шею гирлянды смоквы и под звуки флейт гнали вокруг города… Вначале это было самой настоящей человеческой жертвой, приносившейся Аполлону ради его умилостивления и ради очищения людей. Этих двух людей сжигали, а их пепел бросали в море… Обычай этот, конечно, идет из глубочайшей старины и характерен для самых древних ступеней аполлоновской мифологии. Известен он, кроме Афин, в Колофоне, Абдере и Массилии» [605]. Напомню, что пережитки обычая приносить человеческие жертвы летнему божеству солнца сохранились у ряда народов Европы (см. выше). Нередко в ритуальный костер, разведенный в вальпургиеву ночь или под Купалу, бросали двух соломенных кукол – мужчину и женщину. В ритуальных зольниках, как мы тоже помним, часто встречаются человеческие кости, а зольники синхронны «солнечной повозке». Превращение казни преступников в жертвоприношение богу может быть, как мне кажется, объяснено взглядом на Аполлона как на установителя порядка в разных сферах природы и общественной жизни. Воспользуюсь ещё раз словами А. Ф. Лосева: «Всё устойчивое, все оформленное и упорядоченное, все структурное и организованное – всё это воспринималось греками как идущее или прямо от Аполлона, или установленное им, зависящее от него» [606]. Устанавливая порядок, Аполлон нередко сам чинил расправу и тем или иным способом казнил преступников. Возможно, что скульптурная композиция из Норикума должна была в целях назидания передать зрителям и участникам обряда эту карающую деятельность солнечного божества. В мифологической биографии Аполлона можно указать два эпизода, которые, быть может, должны быть привлечены к расшифровке содержания интересующей нас композиции. За измену с простым смертным Аполлон убил свою возлюбленную, мать своего сына, Корониду. Это очень хорошо соотносится с мифологической биографией славянского Дажьбога, который, соблюдая закон отца, установившего «закон женам – за един мужь посагати», жестоко расправился со знатной женщиной и её любовником, которого казнил. Казнь Корониды может объяснить нам срединную группу: мужчина, заносящий топор над головой женщины. Другой эпизод может объяснить ситуацию с юношами около статуи оленя, которых закалывают копьями конные воины. Братья От и Эфиальт, сыновья Алоэя, пытались взгромоздить несколько гор одна на другую для того, чтобы овладеть небесными богинями. Аполлон убил обоих братьев. По другому варианту мифа братья, преследуя Артемиду, принявшую облик лани, сами закололи друг друга копьями. На норикумской скульптуре есть и священный олень, и двое юношей, закалываемых копьями (правда, чужими), и та богиня, за честь которой вступился Аполлон, – Артемида, сестра Аполлона. Оставив в стороне догадки о содержании скульптурных сцен солнечной колесницы, мы должны признать большую близость главной фигуры – женщины с поднятыми руками и солнечным диском – к изображению того же времени из лужицкого клада в Радолинеке: там тоже в центре композиции женщина с воздетыми к небу руками, а над нею – солнечный диск. Очевидно, за пределами греческого кругозора, у племен Центральной и Восточной Европы, среди которых видное место занимали праславяне лужицко‑скифского облика, шло близкое к греческому мифотворчество, в котором на видное место выдвигаются женское божество земли и плодородия и мужское божество солнца, белого света, тепла, таинственной рождающей «ярой» силы. Это могло быть божество, параллельное Аполлону, с близкими функциями, близкими признаками.
Поиск по сайту: |