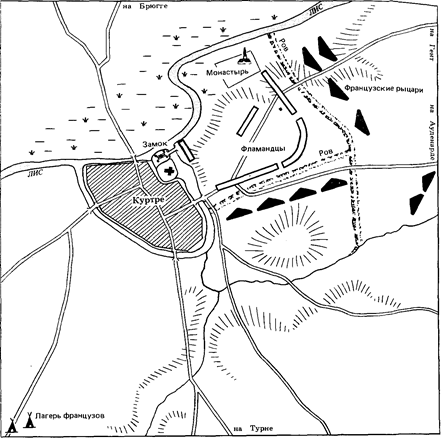|
|
|
Архитектура Астрономия Аудит Биология Ботаника Бухгалтерский учёт Войное дело Генетика География Геология Дизайн Искусство История Кино Кулинария Культура Литература Математика Медицина Металлургия Мифология Музыка Психология Религия Спорт Строительство Техника Транспорт Туризм Усадьба Физика Фотография Химия Экология Электричество Электроника Энергетика |
МАТЕРИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ (X—XIII вв.) 8 страница
Хильдегарда Бингенская была уверена, что Адам и Ева говорили по-немецки. Некоторые настаивали на первенстве французского языка. В Италии XIII в. анонимный автор поэмы об Антихристе, написанной по-французски, утверждал: Язык французский прочих столь богаче, Что, тот, кто стал его учить впервые, Не сможет говорить уже иначе, Не сможет языки учить другие. А Брунетто Латини свою «Книгу о сокровище» писал на французском, «так как это наречие более приятно и более доступно всем людям». Когда на обломках Римской империи установилось многообразие варварских наций и когда принцип «национальный» вошел в соприкосновение с «территориальным» принципом законов и даже вытеснил его, клирики создали вид литературных произведений, приписывающих каждой нации свой особый порок и особую добродетель. Похоже, что в период подъема национализма после XI в. верх одержал антагонизм, поскольку отныне в качестве «национального атрибута» за каждой нацией признавались лишь пороки. Это было особенно заметно в университетах, сводивших вместе магистров и студентов, объединенных в «нации», которые, впрочем, не соответствовали «большим» нациям в территориальном и политическом значении этого слова. По Якову Витрийскому, студенты называли «англичан пьяницами хвостатыми (ср. с «хвостатыми англичанами» времен Столетней войны), французов—надменными неженками, немцев— неотесанными распутниками, нормандцев—пустыми хвастунами, пуатьевинцев—предателями и пройдохами, бургундцев— грубыми тупицами, пустыми ветрениками, ломбардцев— порочными и скупыми трусами, римлян—склочными клеветниками, сицилийцев—жестокими тиранами, брабантцев—вспыльчивыми головорезами, фламандцев—жирными обжорами, бездельниками, разжиженными, словно масло». После чего, продолжал Яков Витрийский, «от оскорблений часто переходила к драке». Так лингвистические группы выстраиваются попарно с пороками, подобно группам социальным, обрученным с дочерьми дьявола. Разделенное общество, казалось, было обречено на посрамление и несчастья. И все же, подобно тому как одни из наиболее дальновидных умов оправдали разделение общества на социопрофессиональные группы, другие добились признания лингвистического и национального разнообразия. Для этого использовался замечательный текст Блаженного Августина: «африканский, сирийский, греческий, еврейский и все прочие языки придают разнообразие одежде этой царицы— христианской доктрины. Но как разнообразие это соединено в единую одежду, так и все языки соединены в одну веру. Пусть в одежде будет разнообразие, но не будет разрывов». Иштван I Венгерский утверждал около 1030 г.: «Гости, приезжавшие из разных стран, привозят языки, обычаи, орудия и различное оружие, и все' это разнообразие служит королевству украшением, двору—убранством, а врагам—устрашением. Ибо королевство, в котором лишь один язык и один обычай,—слабо и непрочно». Герхох Рейхерсбергский в XII в. провозглашал, что нет глупых ремесел и что всякая профессия может привести к спасению, а святой Фома в XIII в. утверждал, что все языки способны привести к истине: «Quaecumque sint illae linguae seu nationes, possunt erudiri de divina sapientia et virtute». Здесь чувствуется крах тоталитарного идеала общества и готовность движения к плюрализму и терпимости. Средневековое право очень долго не признавало распада этого единства. Законы единства оказались весьма долговечными. Из римского права в каноническое пришла максима, которой руководствовалась вся средневековая юридическая практика: «Что касается всех, должно быть одобрено всеми» («Quod omnes tangit ab omnibus comprobari debet»). И нарушение единогласия рассматривалось как скандал. Известный канонист XIII в. Угуччио называл того, кто не присоединялся к мнению большинства, «позорником» (turpis), поскольку «позором являются разногласия и разномыслие в управлении, в корпорации, в коллегии». Ясно, что в этом единогласии ничего не было от «демократии», хотя бы потому, что правители и юристы вполне осознанно открещивались от этого понятия, заменяя его в теории и на практике понятием «качественного большинства». «Лучшая и основная часть» («maior et sanior pars»), где слово «лучшая» предопределяло не количественный, но качественный смысл слова «основная». Теологи и декретисты XIII в. с грустью констатировали, что «природа человеческая склонна к разногласиям», видя в этой испорченности результат первородного греха. Склонности средневекового ума были таковы, что постоянно вызывали к жизни всевозможные общины и группы, называемые тогда «университетами^ («universitates»). Под этим термином понималась тогда люба? корпорация или коллегия, а не только университеты в нашем по нимании. Идея группы неотступно преследовала средневековую мысль, пытавшуюся определить наименьшее число составляю щих ее лиц. Отталкиваясь от определения «Дигест»: «Десять чело век образуют народ, десять овец—стадо, но для стада свиней до статочно четырех-пяти голов», канонисты XII—XIII вв. увлечен но спорили о том, с двух или с трех лиц начинается группа. Глав ной задачей было не оставлять индивида в одиночестве. От оди ночки следовало ожидать лишь злодеяний. Обособление счита лось большим грехом. Пытаясь приблизиться к людям Средневековья в их индивидуальности, мы неизменно убеждаемся, что индивид, принадлежавший, как и в любом другом обществе, сразу к нескольким общинам и группам, не столько утверждался, сколько полностью растворялся в этих общностях. Гордыня считалась «матерью всех пороков» лишь потому, что она являла собой «раздутый индивидуализм». Спасение может быть достигнуто лишь в группе и через группу, а самолюбие есть грех и погибель. Средневековый индивид был, таким образом, опутан сетью обязательств и солидарностей, вступавших в конечном счете в противоречие друг с другом, что давало человеку возможность освободиться и самоутвердиться в результате неизбежного выбора. Наиболее типичным было положение вассала нескольких сеньоров, принужденного к выбору в случае конфликта между ними. Но обычно такие отношения зависимости, имеющие целью еще крепче привязать к себе индивидуума, согласовывались друг с другом, образуя иерархию. Из всех таких связей наиболее важными были отношения феодальные. Показательно, что в течение долгого времени за индивидом вообще не признавалось право на существование в его единичной неповторимости. Ни в литературе, ни в искусстве не изображался человек в его частных свойствах. Каждый сводился к определенному физическому типу в соответствии со своей социальной категорией и своим рангом. Благородные имели белые или рыжие волосы, а также золотые волосы, цвета льна, часто — вьющиеся; голубые «правдивые» глаза—трудно не усмотреть в этом вторжения северных воинов в каноны средневековой красоты. И если великий деятель случайно не укладывался в общепринятые условности физической характеристики (что, например, произошло с Карлом Великим, действительно имевшим, как это выяснилось после вскрытия его могилы в 1861 г., семь футов р^ста—192 см, приписываемых ему биографом Эйнхардом), то его личность все равно полностью оставалась погребенной под грудой общих мест. Биограф наделял императора полным набором аристотелевских и стоических качеств, необходимых особе его ранга. По многим причинам автобиографии были крайне редки и часто весьма условны. Как показал Георг Миш в своей «Истории автобиографии», лишь в конце XI в. появляется первая частная автобиография, написанная Отлохом Сант-Эммеранским. И речь шла пока лишь о «Книжечке о своих искушениях, превратностях Фортуны и писаниях», стремящейся на примере автора преподать моральные уроки. Эту же задачу ставил перед собой и столь независимый ум, как Абеляр, в «Истории моих бедствий», которую можно перевести также как «Историю моих дурных примеров». И даже книга «О своей жизни» аббата Гибер-та Ножанского (1115 г.) при всей своей свободной манере изложения была лишь подражанием «Исповеди» Блаженного Августина. Средневековый человек не видел никакого смысла в свободе в ее современном понимании. Для него свобода была привилегией, и само это слово чаще всего употреблялось во множественном числе. Свобода—это гарантированный статус. По определению Г. Телленбаха, она была «законным местом перед Богом и людьми», то есть включенностью в общество. Без общины не было и свободы. Она могла реализоваться только в состоянии зависимости, где высший гарантировал низшему уважение его прав. Свободный человек—это тот, у кого могущественный покровитель. И когда клирики в эпоху григорианской реформы требовали «свободы церкви», они подразумевали под этим вызволение ее из-под власти земельных сеньоров и подчинение одному лишь наивысшему сеньору—Богу. Индивид в средние века в первую очередь принадлежал семье. Большой семье, патриархальной или племенной. Под руководством своего главы она подавляла индивида, предписывала ему и собственность, и ответственность, и коллективные действия. Эта роль семейной группы хорошо известна нам по отношению к сеньорам, где линьяж определял и реалии жизни рыцаря, и его мораль, и его обязанности. Линьяж был кровной общностью, состоявшей из «родных» «друзей по плоти» — видимо, так именовали свойственников. Линьяж отнюдь не был остаточным явлением первобытной семьи. Он представлял собой этап в организации той рыхлой семейной группы («Sippe»), что встречалась в германских обществах Раннего Средневековья. Члены линьяжа были связаны узами солидарности. Она проявлялась на поле боя и в вопросах чести. Гильом Оранжский в «Короновании Людовика» взывает к Богоматери: На помощь мне приди, Не дай мне трусость проявить, Линьяж позором навсегда покрыть.
Роланд долго отказывается затрубить в рог в Ронсевальском ущелье, чтобы позвать Карла Великого на помощь, из страха обесчестить тем свою родню. Солидарность линьяжа проявлялась с наибольшей силой в кровной мести—файдах. Во времена Рауля Глабера в Бургун-дии неукротимая ненависть столкнула два линьяжа. «Борьба длилась много лет, и вот в день продажи участка земли прямо на нем разгорелась битва. Многие с той и другой стороны нашли там свою смерть. Из дома, что нас занимает, пало тогда 11 человек детей и внуков. И ссора продолжалась, через некоторое время раздор вспыхнул с новой силой, и несчислимые бедствия продолжали поражать эту семью, членов которой убивали еще на протяжении тридцати и более лет». На средневековом Западе вендетта практиковалась долго и признавалась законной. Родственник имел право ждать поддержки, и это привело к расхожему убеждению, что величина богатства определяется числом родных. У изголовья своего умирающего племянника Вивьена Гильом Оранжский сокрушается: О горе мне! Потеряно все семя моего линьяжа. Линьяж соответствует агнатическому роду, цель и основа которого—сохранение общего имущества-патримония. Специфика его феодальной разновидности заключалась в том, что для мужчин линьяжа военные функции и отношения личной верности были столь же важны, как и экономическая роль семьи. Но этот комплекс интересов и чувств нагнетал в феодальной семье крайнюю напряженность, драматизм в отношениях преобладал над верностью. Прежде всего—соперничество двух братьев. Власть не сразу была обеспечена старшему, но была в руках того из братьев, за кем прочие признавали способности командира. Часто признание не было безоговорочным, а оспаривалось. В королевских феодальных семьях соперничество и взаимная ненависть братьев подстегивалась еще и притягательностью короны. Такова была борьба между сыновьями Вильгельма Завоевателя, Вильгельмом Рыжим, Робертом Короткие Штаны и Генрихом I, или между сводными братьями Педро Жестоким и Энрике Трастамарским в Кастилии XIV в. Природа феодального линьяжа порождала своих Каинов. Она порождала также и непочтительных сынов. Нетерпение юных феодалов возбуждалось многим причинами: сокращенный разрыв между поколениями, малая средняя продолжительность жизни и необходимость для сеньора проявлять себя в качестве военного вождя; как только сеньору позволял возраст, он должен был постоянно подтверждать свой статус на поле боя. Отсюда— многочисленные восстания детей против отцов, от Генриха Молодого, Ричарда Львиное Сердце и Жоффруа Бретонского, восставших против Генриха II Английского, до вполне феодального мятежа будущего Людовика? XI против его отца Карла VII. Впрочем, экономические причины и соображения престижа обычно 34. БИТВА ПРИ АРСУФЕ 3S. БИТВА ПРИ БУНИНЕ 36. БИТВА ПРИ КУРТРЕ
34, 35, 36. СРАЖЕНИЯ ПОД АРСУФОМ (1191), БУВИНОМ (1214) И КУРТРЕ (1302) В средневековых военных сражениях решающими условиями победы были боевой порядок и согласованность действий. Поэтому столь важна была солидарность людей, объединяемых кровным родством или общей родиной. В битве под Арсуфом (34) 7 сентября 1191 г. армия крестоносцев под командованием Ричарда Львиного Сердца была атакована мусульманской армией Саладина со стороны леса в то время, когда она была на марше и в строгом порядке продвигалась вдоль моря, по которому за ней следовал христианский флот. Король сумел быстро перестроить колонну, создав глубоко эшелонированный оборонительный порядок, благодаря чему его армия нанесла сильные удары мусульманам и разбила их. Сплоченность людей внутри отрядов, или батальонов, которые были составлены из сородичей или соотечественников, сыграла при этом решающую роль. Особенно отличились тамплиеры, которые сражались, «как братья от одного отца», и державшиеся вместе сородичи, как, например, представители линьяжа Жака д'Авена. Крестоносцы настолько тесно сомкнули свои ряды, что, по словам одного хрониста, яблоку некуда было упасть. Под Бувином (35) 27 июля 1214 г.армия французского короля Филиппа-Августа разбила объединенные войска императора Оттона, графа Фландрии Феррана и Рено Булонского благодаря тому, что командующий французской армией епископ Герен сумел воспользоваться рядом просчетов противника. Герен развернул свои войска (1200— 1300 рыцарей и 5000 пехотинцев) по фронту так, чтобы не допустить захода противника с флангов. Войска союзников (1300—1500 рыцарей и 7500 пехотинцев) были менее сплоченны. Немцы Оттона, смяв французскую пехоту из городских ополченцев, стремительно бросились вперед и едва не взяли в плен Филиппа-Августа, под которым была убита лошадь, но тем самым нарушили строй, позволили Герену разъединить союзные войска и разбить поочередно левое крыло, центр и правое крыло. Победа обеспечена была прежде всего спаянностью французских отрядов. Описывая сражение, хронист Гийом ле Бретон упоминает пять индивидуальных боев, три из которых велись рыцарями поодиночке против целых отрядов, и пятнадцать коллективных боев между отрядами. Это придает определенную достоверность старому представлению о средневековых сражениях как состоявших из поединков.
Под Куртре (36) 11 июля 1302 г. пехота фламандских городов-коммун, одержав победу над цветом французского рыцарства, положила начало революционным переменам в военном деле. Рыцари из феодальных армий презирали пехоту, считая, что один рыцарь стоит десяти пехотинцев. Французская армия, насчитывавшая 2,5 тыс. знатных рыцарей и 4 тыс. арбалетчиков и пехотинцев, имела явное качественное преимущество перед 8 тыс. фламандских пехотинцев (главным образом из Брюгге) и 500 знатных рыцарей, которые во время боя спешились и возглавили фламандцев. Благодаря своим рыцарям и братьям миноритам, благо'' славлявшим и исповедовавшим накануне боя, фламандцы преодолели страх. Окружив себя рвами и выставив вперед два ряда пикинеров, они создали себе надежную оборонительную позицию. За спиной у них была река Лис, так что бежать было некуда и оставалось или победить, или погибнуть. Рвы помешали французским рыцарям нанести первый мощный удар. Схватка закончилась страшным избиением французов, более половины их рыцарей было перебито, и фламандцам досталась богатая добыча, в том числе полтысячи позолоченных шпор, по которым за этим событием закрепилось название «битвы шпор» и которые были развешены в церкви Нотр-Дам в Куртре, откуда французы увезли их после реванша в сражении под Роозбеке в 1328 г. Рыцарей при Куртре пронял такой страх, что, добравшись вечером до Турне, они, по воспоминаниям современников, они не могли есть. Чуть позже горожане одержали над рыцарями победу в Шотландии (Бэннокберн, 1314) и Швейцарии (Моргартен, 1315). Так начался закат феодальных армий. Напряженность в линьяже порождалась также многочисленными браками, постоянным присутствием большого числа незаконных детей. Наличие бастардов в низших слоях общества считалось постыдным, но у знати не вызывало осуждения. Все эти противоречия позволяли авторам придавать драматизм сюжету эпических произведений. Жесты изобилуют семейными драмами. В «Гуоне» их олицетворяет Шарло—недостойный сын Карла Великого, а также Жерар — родной брат Гуона, узурпировавший его права на наследство. Для агнатской семьи было характерно особое значение, придаваемое отношениям племянника и дяди, точнее, брата матери. «Жесты» демонстрируют нам много таких пар: Карл Великий— Роланд, Гильом Оранжский—Вивьен, Рауль де Камбре— Готье... Церковная форма непотизма была в средневековом обществе лишь частным случаем. Эта агнатическая в большей степени, чем патриархальная, семья обнаруживается и у класса крестьян, она более тесно совпадает там с земледельческим производством, с экономической собственностью семьи, ее патримонием. Она включила в себя тех, кто жил в одном доме и занимался обработкой одного участка земли. Но нам очень мало что известно об этой крестьянской семье, образующей основную экономическую и социальную ячейку обществ, подобных средневековому Западу. Будучи реальной общностью, она не имела своего юридического выражения. Она была тем, что во Франции Старого порядка называлось «умалчи-ваемой общностью» (cornmunaute taisible). Сам термин указывает, что право очень неохотно признавало ее существование. Трудно понять, какое в точности место занимали женщина и ребенок в семье как первичной общности. Без сомнения, женщина находилась в подчиненном положении. Она не была в чести в этом мужском, военном обществе, чье существование постоянно было под угрозой и где, следовательно, плодовитость рассматривалась скорее как проклятие, чем как благо. Христианство сделало очень мало для улучшения ее материального и морального статуса. Ведь на ней лежала основная вина за первородный грех. Из всех видов дьявольского искушения именно женщина была наихудшим воплощением зла. «Муж есть глава жены» (Эф. 5,23)—христианство верило этим словам апостола Павла и учило по ним. Повышение статуса женщин наиболее ярко читается в культе Девы Марии, расцветшем в XII—XIII вв., поворот в христианской спиритуальности подчеркивал искупление греха женщин Марией, новой Евой. Этот поворот виден также и в культе Магдалины, получившем развитие с XII в., как показывает история религиозного центра в Везелее. Но реабилитация женщины была не причиной, а следствием улучшения положения женщины в обществе. Роль женщин в средневековых еретических (например, катары) или параеретических (например, бегинки) движениях была знаком неудовлетворенности отведенным им местом. Впрочем, констатация презрения по отношению к женщине нуждается в уточнениях. Хотя женщина и не считалась столь же полезной в средневековом обществе, как мужчина, но тем не менее она играла важную роль в экономической жизни и помимо своей функции деторождения. В классе крестьян в работе она была почти тождественной, если не равной мужчине. Когда Гельмбрехт пытается убедить свою сестру Готлинду бежать из дома отца-крестьянина, чтобы выйти замуж за «вора», с которым она заживет как госпожа, он говорит ей: «Если ты выйдешь за крестьянина, то не будет женщины тебя несчастнее. Тебе надо будет прясть, трепать лен, сучить нить, дергать свеклу». Занятия женщин высшего класса были хотя и более «благородными», но не менее важными. Они стояли во главе гинекеев, где изготовление предметов роскоши—дорогих тканей, вышивок—обеспечивало большую часть потребностей в одежде сеньора и его людей. Не только разговорный язык, но и язык юридический для обозначения разных полов называл их: «люди меча» и «люди прялки». В литературе поэтический жанр, связанный с женщинами и обозначенный П. Лежентийем как «песни о женщине», получил название «песни полотна», то есть распеваемые в гинекеях, в прядильных мастерских. Когда междуIX и XI вв. высший слой хозяйственного класса, «laboratores», добился известного социального продвижения, то это коснулось и женщин, принадлежащих к данной категории. Хотя рождение девочек в средние века и не вызывало особой радости, все же у нас нет оснований подозревать эту эпоху в детоубийстве, как иные женоненавистнические общества. Пенитен-циалии, перечислявшие длинный список жестоких и варварских обычаев, как правило, молчат по этому поводу. С другой стороны, женщины из высших слоев общества всегда пользовались определенным уважением. Во всяком случае, некоторые из них. Наиболее известные дамы вошли в литературу. Берта, Сибила, Гибур, Кримхильда и Брунхильда, различные по характеру и судьбе, мягкие и жестокие, несчастные и счастливые, они стоят на первом плане в ряду героинь. Они были как бы земными двойниками тех женских образов, что столь ярко засверкали в романском и готическом религиозном искусстве. Иератические мадонны стали более человечными, фигуры изображались теперь в более вольных позах, девы Разумные и девы Неразумные обменивались взглядами в диалоге пороков и добродетелей, а в фигурах Евы, смущенной и смущающей, само средневековое манихейство задавалось вопросом: «Неужели само небо сделало это собрание чудес жилищем Змия?» И конечно, главную роль в куртуазной литературе сыграли дамы-вдохновительницы и поэтессы -героини во плоти или героини грез: Элеонора Аквитанская, Мария Шампанская, Мария Французская, равно как и Изольда, Гвиньевьера или Далекая принцесса,— они открыли современную любовь. Но это—другая история, к которой мы еще вернемся. Часто утверждалось, что крестовые походы, оставлявшие женщин Запада в одиночестве, привели к росту их власти и прав. Д. Херлихи еще раз подтвердил, что положение женщин высших слоев наЮге Франции и в Италии знало два периода улучшения: каролингскую эпоху и время крестовых походов и Реконкисты. И поэзия трубадуров, казалось, отражала это повышение роли покинутых жен. Но поверить святому Бернару, рисующему Европу совсем обезлюдевшей, или Маркабрюну, у которого владелица замка вздыхает, поскольку все, кто был в нее влюблен, ушли во Второй крестовый поход, это означало бы принять за чистую монету чаяния фанатичного пропагандиста и образы поэта с богатым воображением. Впрочем, при чтении трубадуров, мягко говоря, не возникает впечатления, что мир куртуазной поэзии был миром одиноких женщин. Изучение же юридических актов показывает, что, во всяком случае, в вопросах управления совместным имуществом супружеской пары ситуация женщин ухудшалась сXII по XIII в. С детьми дело обстояло иначе. Да и были ли дети на средневековом Западе? Если вглядеться в произведения искусства, то их там не обнаружится. Позже ангелы часто будут изображаться в виде детей и даже в виде игривых мальчиков — путти, полуангелочков, полуэросов. Но в средние века ангелы обоего пола изображались только взрослыми. И когда скульптура Девы Марии уже приобрела черты мягкой женственности, явно заимствованные у конкретной модели и дорогие для художника, решившего их обессмертить, младенец Иисус оставался ужасающего вида уродцем, не интересовавшим ни художника, ни заказчиков, ни публику. И лишь в конце Средневековья распространяется иконографическая тема, отражавшая новый интерес к ребенку. В условиях высочайшей детской смертности интерес этот был воплощен в чувстве тревоги: тема «Избиения младенцев» отразилась в распространении праздника Невинноубиенных. Под их патронатом находились приюты для подкидышей, но они появились не ранее XV в. Прагматичное Средневековье едва замечало ребенка, не имея времени ни умиляться, ни восхищаться им. Да и ребенок часто не имел дедушки—столь привычного для традиционных обществ воспитателя. Слишком мала была продолжительность жизни в средние века. Едва выйдя из-под опеки женщин, не относившихся серьезно к его детской сущности, ребенок оказывался выброшенным в изнурительность сельского труда или в обучение ратному делу. Это подтверждают и жесты. «Детство Вивьена», «Детство Сида» рисуют очень юного героя уже как молодого человека—скороспелость была обычным явлением в примитивных обществах. Ребенок попадает в поле зрения лишь с возникновением семьи, характеризующейся совместным проживанием тесной группы прямых потомков и предков, которая появилась и получина распространение с развитием города и класса бюргерства. Ре-оенок был порождением города и бюргерства, подавивших и сковавших самостоятельность женщины. Она была порабощена домашним очагом, тогда как ребенок эмансипировался и заполонил дом, школу, улицу. Находясь в зависимости от семьи, предписывающей как характер владения собственностью, так и коллективный образ жизни, индивид повсюду, за исключением города, принадлежал также и другой общности—сеньории, под властью которой он жил. Конечно, между благородным вассалом и крестьянином любого статуса разница была существенной. Но, находясь на разных уровнях и обладая разным престижем, оба они принадлежали к сеньории, точнее, сеньору, от которого она зависела. И тот и другой были «людьми сеньора», хотя для одного это слово имело благородное значение, а для другого—уничижительное. Разделявшую их дистанцию подчеркивали сопутствующие слова. Например, слова для обозначения вассала «человек уст и рук» указывали на определенную интимность, сопричастность и ставили вассала, несмотря на его подчиненное положение, в одну плоскость с сеньором. «Человек власти» другого (то есть подвластный)— этот термин, напротив, указывал на зависимое положение крестьянина от сеньора. В обмен на покровительство и установление экономической связи (в виде фьефа в одном случае и держания—в другом) оба становились обязаны сеньору: помощью, службой, платежами, оба были подчинены его власти, что отчетливее всего проявлялось в юридической сфере. Среди функций, отобранных феодалами у публичной власти, функция судебная оставалась самой тяжелой для всех зависимых от сеньора людей. Без сомнения, вассал вызывался в суд чаще, чтобы сидеть на нем рядом с судьей или даже вместо него, чем чтобы быть обвиняемым, но и он подчинялся вердиктам суда за свои правонарушения, если сеньор обладал правом только «низшей юстиции», или за свои преступления, если сеньору принадлежала и «высшая юстиция». Тюрьма, виселица, позорный столб— эти мрачные продолжения сеньориального трибунала скорее символизировали подавление, чем правосудие. Прогресс королевской юстиции, помимо улучшения работы правосудия, помогал эмансипации человека, чьи права лучше были защищены в такой широкой общности, как королевство, чем в такой узкой и потому более стеснительной, а то и подавляющей, как сеньория. Но прогресс этот был весьма неторопливым. Людовик Святой, государь из числа наиболее озабоченных устранением несправедливости и укреплением авторитета королевской власти, относился к сеньориальной юстиции с неизменным уважением. Гильом де Сен-Пату приводит по этому поводу показательный анекдот. На кладбище церкви в Витри король в окружении толпы слушал проповедь доминиканца брата Ламбера. Неподалеку в таверне так шумело «сборище людей», что заглушало речь проповедника. «Блаженный король спросил, под чьей юрисдикцией находится эта местность. Ему ответили, что под королевской. Тогда он приказал сержантам утихомирить людей, заглушавших слово Божие, что и было исполнено». Биограф государя замечает: «Считают, что блаженный король спросил, под чьей юрисдикцией эта местность, из опасения покуситься на права, ему не принадлежавшие». Подобно тому как ловкий вассал мог использовать к своей выгоде множественность и порой противоречивость своих ленных обязательств, так и находчивый подданный сеньора мог умело выпутаться из сложного сплетения соперничавших юрисдикции. Но масса чаще испытывала добавочный гнет. Получалось, что быть индивидом означало быть ловкачом. Многообразный средневековый коллективизм окружил слово «индивид» ореолом подозрительности. Индивид—это тот, кто мог ускользнуть из-под власти группы, ускользнуть лишь при помощи какого-то обмана. Он был жуликом, заслуживающим если не виселицы, то тюрьмы. Индивид вызывал недоверие. Конечно, большинство общин требовали от своих членов исполнения долга и несения тягот не просто так, а в обмен на покровительство. Но за то приходилось платить цену, тяжесть которой ощущалась вполне реально, покровительство же не было столь явным и очевидным. В принципе церковь собирала десятину с членов приходской общины на нужды бедных. Но разве с десятины не наживалось духовенство, по крайней мере высшее? Как бы ни обстояло дело в действительности, в большинстве приходов в это верили, и десятина была одним из наиболее ненавистных платежей. Обмен благодеяниями и услугами был более уравновешенным в других общностях, имевших вид более эгалитарный: в сельских и городских общинах. Сельские общины часто с успехом оказывали сопротивление сеньориальным требованиям. Их объединяла экономическая база. Они управляли, распределяли и защищали выпасы и общинные лесные угодья, которые имели жизненно важное значение для большинства крестьянских семей, снабжая их дровами и подножным кормом для свиней и коз. И все же в сельской общине не было равенства. Несколько домохозяев—чаще всего ими были богатые крестьяне, но иногда просто потомки наиболее уважаемых родов — господствовали в общине, решая ее дела к своей выгоде. Р. Хилтон и М. Постан показали, что в большинстве английских деревень XIII в. имелась группа зажиточных крестьян, предоставлявших как индивидуальные займы (занимаясь ростовщичеством вместо евреев, которые в английской деревне уже перестали играть эту роль, если вообще ее когда-либо играли), так и многочисленные и часто завышенные ссуды всей общине для уплаты штрафов, судебных издержек, общинных платежей. Эта группа, состоявшая всегда из одних и тех же лиц, выступала в роли гарантов (warrantors) в хартиях. Они, впрочем, часто и образовывали і ильдию или братство, поскольку сельская община, как правило, не являлась наследницей первобытной соседской общины, но была более поздним социальным формированием, современным тому движению, которое увенчало расцвет Х—XII вв. созданием новых институтов. В XII в. в Понтье и в окрестностях Лана разразились коммунальные революции, затронувшие одновременно и города, и деревни, где крестьяне образовали коммуны, состоящие из федераций деревень. Параллелизм двух аспектов одного движения, известный всему христианскому миру, лучше всего виден на примере Италии. Как известно, в частности, из работ Р. Каджезе, П. Селлы, Ф. Шнайдера и Г. П. Боньетти, рождение городских коммун шло одновременно с рождением коммун сельских. Более того, в обоих случаях главную роль играла экономическая и моральная солидарность, существовавшая между группами «соседей». Эти «соседства» («viciniae») были ядром общин феодальной эпохи. Явления и понятия, обозначавшие соседство, имели фундаментальное значение, им противопоставлялись явления и понятия, связанные с «чужаками». Добро шло от соседей, зло—от чужаков. Но, став структурированными общинами, «соседства» расслаивались, и во главе их становились группы «добрых людей», или «прюдомов», «знатных», «нотаблей», из числа которых выходили консулы или должностные лица, общинные чиновники.
Поиск по сайту: |